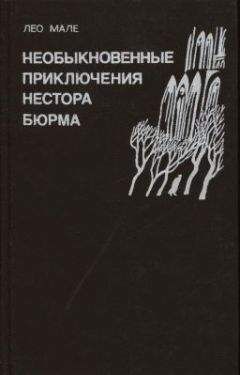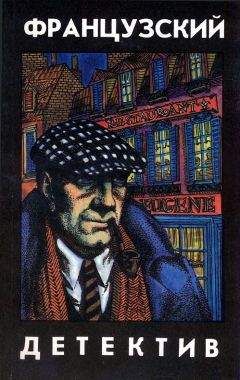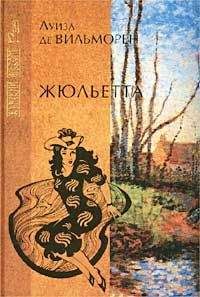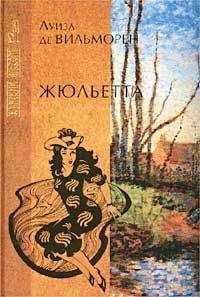Я вышел.
Два потока промозглого, насыщенного сыростью воздуха – один от Сены, а второй от перронов железнодорожного вокзала, которые находятся ниже станции метро,– кружили валяющиеся на платформе бумажки.
Цыганка тоже вышла. Тем хуже для двух кретинов, которые, похоже, были уверены, что знают, как нравиться женщинам, но, оказывается, ехали не в Сальпетриер; теперь им придется поискать другой объект, чтобы развлечься.
По ее поведению ни за что не скажешь, будто она следит за мной. Она обогнала меня, но некоторые топтуны используют как раз такой способ. Впрочем, я вовсе не думал, что имею дело с коллегой в юбке.
Я наблюдал, как, рассекая поток пассажиров, она движется к плану метро упругой, изящной походкой танцовщицы, безразличной к интересу, который возбуждает у встречных.
Ее шерстяная юбка выступала из-под несколько коротковатого плаща и колыхалась в такт плавному и ладному покачиванию бедер, задевая удобные, очень элегантные, хотя и без каблуков, сапожки коричневой кожи.
Она встала перед картой и старательно делала вид, будто изучает ее.
Поезд отъехал. На параллельный путь подошел встречный, остановился и тоже укатил, отдавшись дрожью у меня в подошвах. В кабинете начальника станции надрывался телефон. Я раскурил трубку.
Теперь на платформе остались только мы с нею. Люди, вышедшие из встречного поезда, в большинстве своем приехали навестить больных в Сальпетриер, и им не было нужды задерживаться на станции, а служитель, который так художественно выписывает водой из лейки вензеля частично на платформе, но в основном по обуви пассажиров, еще не приступил к своим обязанностям, вероятно как раз потому, что не было народу.
Я подошел к прелестному созданию.
Она, надо полагать, не выпускала меня из виду, так как, когда между нами осталось не больше двух шагов, повернулась ко мне. Она не дала мне времени даже рот открыть и атаковала первой:
– Вы… Нестор Бюрма, да?
– Да. А вы?
– Не ходите туда,– бросила она вместо ответа.– Не ходите. Не нужно.
Ее чувственный, чуть с хрипотцой голос звучал устало и печально. В темно-карих глазах с золотистыми искорками читалась безмерная грусть, если только не затаенный страх.
– Куда не ходить? – спросил я.
– Вы же идете,– она понизила голос,– встретиться с Абелем Бенуа. Не нужно.
Ветер играл с выбившейся прядью, и та упала ей на глаза. Резким движением головы она отбросила назад копну разметавшихся черных волос. Серьги в виде сдвоенных металлических колец зазвенели, и в воздухе поплыла струя дешевых духов, которыми чуть пахнул конверт, полученный мною с двенадцатичасовой почтой.
– Не нужно?– удивился я.– Почему же?
Она с трудом сглотнула слюну. Ее шейные мышцы напряглись. Грудь поднялась, еще явственней обрисовавшись под пуловером. Шепотом, почти беззвучно она выдохнула два слова – два слова, которые я столько раз слышал с тех пор, как стал заниматься своим делом, два слова, являющиеся обычно основанием для всех моих приключений, два слова, которые я скорей угадал, чем услышал, когда она их произнесла, и которые, не знаю почему, заставил ее повторить.
– Он умер,– сказала она.
Несколько секунд я молчал.
Снизу доносились характерные звонки, которыми служащие Национальной железнодорожной компании требуют, чтобы дали дорогу их багажным тележкам.
– Вот как!– наконец произнес я.– Значит, это не был розыгрыш?
Она с упреком взглянула на меня.
– Что вы этим хотите сказать?
– Ничего. Продолжайте.
– Это все.
Я покачал головой.
– Ну нет. Вы сообщили либо слишком много, либо слишком мало. Когда он умер?
– Сегодня утром. Он хотел повидаться с вами, но не успел. Я,– она опять сглотнула,– наверное, слишком поздно бросила письмо в ящик.
Она машинально опустила руку в карман плаща, могильник срочных писем, и вытащила смятую пачку «Голуаз», но сразу же, так и не взяв сигарету, положила ее обратно. А я вспомнил, что у меня потухла трубка. Однако не стал ее раскуривать и спрятал.
– А, так письмо… это вы?
– Я.
– И если я правильно понимаю, вы следуете за мной, как только я вышел из бюро?
– Да.
– Зачем?
– Не знаю.
– Может, чтобы убедиться, отозвался ли я на ваш призыв?
– Может быть.
– М-да…
Какой-то тип поднялся по лестнице и принялся прохаживаться по платформе, украдкой поглядывая на нас.
– М-да… Итак, я сел на станции «Биржа», и все это время мы ехали вместе. Но почему же, если вы знали, что он умер, вы не сказали мне это раньше? Почему дожидались, когда я доеду до больницы?
– Не знаю.
– Не больно-то много вы знаете.
– Я знаю, что он умер.
– Он был ваш родственник?
– Друг. Старый друг. Можно сказать, приемный отец.
– Чего он хотел от меня?
– Не знаю.
– Но он говорил вам обо мне?
– Да.
– И что же именно?
– Отдавая мне письмо, он сказал, что вы легавый, но не такой, как другие, порядочный, и что я могу доверять вам.
– Ну и как, вы доверяете мне?
– Не знаю.
– Да, не больно-то много вы знаете,– повторил я.
Она пожала плечами и тоже повторила:
– Я знаю, что он умер.
– Да. Во всяком случае, вы так утверждаете.
Она широко раскрыла глаза.
– Вы что, не верите мне?
– Послушайте, крошка… Кстати, у вас есть имя?
Слабая улыбка тронула ее красные губы.
– Вы и впрямь легавый,– заметила она.
– Не знаю. Гляди-ка, я уже повторяю вас. Нам нужно все-таки прийти к согласию. Мне что, нельзя спросить ваше имя? Но ведь Абель Бенуа сказал вам мое.
– Белита,– произнесла она.– Белита Моралес.
– Так вот, моя крошка Белита, я верю только в то, что увидел собственными глазами. Что, если этот самый Абель Бенуа никакой вам не друг, не приемный отец и уж не знаю кто там еще, а просто кому-то нужно, чтобы мы не встретились, несмотря на то что он позвал меня, а может, как раз потому, что позвал. Как вам такая схема? Я еду, вы объявляете мне, что он сыграл в ящик, и я поворачиваю назад. Но вот беда, я не из тех, кто поворачивает назад. Я упрямый и, если уж во что-то вцепился, не отпущу.
– Знаю.
– Ах, так хоть что-то вы все-таки знаете?
– Да. Он именно так и говорил о вас. Ладно, сходите гуда,– бросила она, потеряв надежду убедить меня.– Идите и увидите сами, пудрила ли я вам мозги, или он… вправду умер. Только моей ноги там больше никогда не будет. Я подожду вас на улице.
– Не пойдет. Мне кажется, мы еще не все сказали друг другу, и я был бы очень огорчен, если бы потерял вас. Вы составите мне компанию.
– Нет.
– А если я потащу вас силой?
Конечно, выполнить это было бы нелегко, но почему бы не попробовать припугнуть ее?
В глазах у нее вспыхнули мрачные огоньки.
– Не советую.
Платформа понемногу заполнилась людьми, ждущими поезда. Мы мало-помалу стали привлекать внимание. Надо полагать, видя, как мы тихо препираемся, некоторые думали: «Вот еще один доверчивый дурак попался на крючок». Возможно, они не так уж и ошибались.
– Ладно,– сказал я.– Я пойду один. Но в любом случае я вас найду.
– Вам не придется натирать мозоли,– с издевкой заметила она.– Я подожду вас.
– И где?
– Около больницы.
– Ну-ну,– усмехнулся я.
– Я подожду вас,– повторила она.
Она вся прямо ощетинилась, словно оскорбленная тем, что кто-то посмел не поверить ее словам.
Я резко развернулся и пошел вниз по лестнице, которая, проделав множество поворотов, привела меня к вокзалу. Когда я был уже по другую сторону ограды, на бульваре Опиталь, я бросил взгляд сквозь прутья.
Белита Моралес, если только это ее настоящее имя, медленно следовала за мной, засунув руки в карманы плаща, который она так и не застегнула, и с каким-то вызовом подставляя свою хорошенькую упрямую мордашку колючим стрелам дождя.
С каждым моим шагом расстояние между нами увеличивалось.
Последняя виденная мною медсестра звалась Джейн Рассел[4]. Это было в фильме, название которого я забыл, а рассказывалось в нем про людей в белом, желтокожих детишек в малярии и девиц в техниколоре, которых сценарист заставил пройти огонь, воду и медные трубы. Джейн Рассел излечивала всех подряд, кроме зрителей, которых она, напротив, ввергала в сильнейшую горячку. Но та, к которой я обратился в коридоре Сальпетриер возле десятой палаты, ничем не напоминала свою кинематографическую коллегу, чью сексапильность халатик только усиливал. Эта же была корявая, без зада и буферов, точьв-точь каких и встречаешь в унылой действительности,– одним словом, подлинное лекарство от любви. И при этом одета была, как все представительницы этой почтенной профессии, то есть выглядела, хотя все на ней сверкало чистотой, так, что в голову почему-то приходила мысль о неаккуратно скатанном тюке грязного больничного белья.