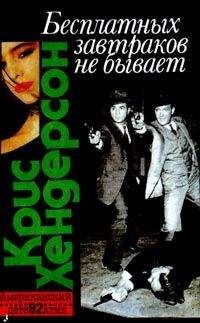Но в ту ночь вопли и плач не стихали. Они так гулко отдавались во дворе, проникая в окна моей спальни, что, мне наконец надоело делать вид, будто я ничего не слышу. Я слез с кровати — было ясно, что уснуть мне не удастся — и прошлепал на кухню проверить холодильник. Вопли преследовали меня и там, и за дверью. Не вполне проснувшись, я вышел наружу и двинулся по звуку на источник беспокойства. Я обнаружил его двумя этажами ниже. Когда я остановился у двери Санторио — тогда я еще не знал, кто там живет, — неожиданно воцарилась звенящая тишина. Повторяю, я не знал тогда, что там происходит и почему среди ночи раздаются крики. Но терпеть их — причем почти каждую ночь — я больше был не намерен.
По правде говоря, внутренний голос убедительно советовал мне не вмешиваться. Итак, время шло, а я, босой, в одних пижамных штанах, стоял перед дверью, как дурак. Вдобавок вспомнил, что оставил свою собственную дверь незапертой... «Ступай домой», — твердила мне та часть моего мозга, которая уважала достижения современной цивилизации и выработанные ею понятия о том, как надо поступать, а как не надо. Я заколебался было, но тут из-за двери донесся уже не плач, не крик, а какой-то нутряной вопль, полный отчаяния и безнадежной уверенности в том, что будущее ничем не будет отличаться от прошлого и ничего никогда не изменится.
Когда я высадил дверь, он еще держал в руке ремень, а полуголая Эльба, избитая так, что глядеть на нее было страшно, валялась на полу вся в крови. Я ступил за порог, отвел его в другую комнату и там взялся за него всерьез. Я продолжал бить Сантарио и после того, как он поклялся, что пальцем не тронет дочь. И после того, как он стал молить о пощаде. И после того, как его вывернуло наизнанку на стены, на пол, на нас обоих. И если бы девочка — сплошные кровоточащие рубцы и огромные, расширенные ужасом карие глаза — не открыла дверь, я бы забил его до смерти. К тому шло.
Я остановился и отпустил его, овладев собой в миллиметре от убийства, и он пополз от меня на четвереньках, мерзко попискивая, словно жирная маленькая крыса. Да он и был скорее крыса, чем человек. Но больше он никогда не поднимал руку ни на Эльбу, ни на ее сестру, ни на ее братьев. Спустя несколько дней, когда немного зажили ее кровоподтеки, она пришла ко мне и попросила разрешения прибрать в квартире. Ни разу ни она, ни я не упоминали о той ночи.
Это вполне могло быть ловким ходом, ловушкой для простодушного гринго. Получить ключи от квартиры и вынести оттуда все, что можно. Для такой затеи целое семейство дало бы охотно излупцевать себя, лишь бы тронуть сердца соседей. Но я почему-то был уверен, что это — не тот случай. Доказательств у меня не было — одни ощущения. Но уверен я был твердо. А потому отдал ей ключи, не сказав ни слова, ничего не предписывая и не объясняя, и пошел по своим делам. Логика подсказывала, что я поступаю как последний олух и поплачусь за это. Однако возобладали вера и доверие.
А когда в тот день я вернулся домой, они могли торжествовать. Я вернулся в преображенный мир. Привела ли Эльба целую армию уборщиц или взмахнула волшебной палочкой, я не знаю. Й, честно говоря, знать не хочу. Это не имеет никакого значения. Вся посуда была вынута из шкафа и перемыта. Та же участь постигла и сам шкаф, и пол, и стены. Когда я уходил, на окнах висело какое-то тряпье: старые одеяла и полотенца — вернувшись, я увидел занавески. Мебель сверкала, словно заново отполированная, окна сияли, вся одежда была выстирана, включая нижнее белье, с которого мне лично никак не удавалось убрать какой-то сероватый налет. Если бы не мой пес, я подумал бы, что ошибся дверью.
Саму же Эльбу я обнаружил на диване — она спала так крепко, словно участвовала в марафоне. Лицо ее было все в поту и грязи, но излучало спокойствие. Я поглядел на нее, и мне показалось, что меня усыновили, и это было не самое скверное ощущение из всех, что мне приходилось испытывать.
С того дня я стал платить ей жалованье — половину отдаю на руки, половину кладу в банк. Иногда вместе с Хью, или с Тони, или с кем-нибудь еще мы ходим на ипподром. Иногда мы проигрываем, но чаще выигрываем. Эти деньги тоже ложатся на счет в банке, за исключением разве что какой-нибудь мелочи, вроде угощения для всех ее дядюшек. Так мне удалось скопить восемь с половиной тысяч.
Чековая книжка заведена на мое имя с доверенностью на Эльбу, но с недавних пор я стал подумывать: не принять ли кое-какие меры предосторожности, не оговорить ли права Эльбы пользоваться вкладом в моем завещании? Если в один прекрасный день я пропаду без вести или меня накормят свинцовыми конфетами до отвала, можно твердо рассчитывать на этот банк: он уж постарается присвоить денежки Эльбы, не теряя времени на такие пустяки, как угрызения совести. Проглотит вклад и не поперхнется. Так что придется мне заняться завещанием.
Не сейчас, разумеется. Выйдя из окутанной облаком пара ванны, я был способен только на то, чтобы добраться до кровати. Я поднялся всего несколько часов назад, но часы эти мне дорого дались. Я попросил Эльбу во что бы то ни стало разбудить меня в четыре. Она опять попеняла мне на неправильный образ жизни, но заверила — в назначенное время я буду на ногах, даже если придется для этого вылить на меня ведро холодной воды. Я призвал ее использовать поначалу менее радикальные методы и с улыбкой выпроводил из комнаты.
Балто улегся у кровати, всем видом своим показывая, что готов защищать меня от любых посягательств — и даже от кошмарных снов. Его влажный язык уже не раз в прошлом не давал темному подсознанию вырваться на поверхность. Я взглянул на холодильник у изголовья: я дал себе только два часа роздыха. Бери, что дают, подумал я, откинул голову на подушку и закрыл глаза. Не транжирить же то, чего и так мало.
В половине седьмого я влился в уже редеющий — час пик кончался — поток машин, мчавших по Манхэттену. Эльба и Балто, объединив усилия, подняли меня с постели в десять минут пятого. Если вас когда-нибудь будила команда, состоящая из девчонки, которая пронзительно верещит по-испански, и здоровенного пса, который облизывает вас с головы до ног, — вы меня поймете. Если чаша сия вас миновала, — жизнь не так ужасна, как может показаться.
Жуя сваренные на пару овощи — Эльба отказывается готовить мне мясные блюда: мой организм, видите ли, и так получает слишком много отравы в разных видах, — я позвонил кое-куда, имея намерение стронуть дело Миллера с мертвой точки. Меня заинтересовали слова Стерлинга о том, что заведение обходится ему недешево: помнится, и сержант Эндрен, и мисс Беллард говорили, что никто из «плейнтонской четверки» крупными суммами не располагал. Каким путем обзавелся мистер Стерлинг своим «Страусом»?
Путей множество, разумеется, но ответ на этот вопрос может вывести меня на след. Для того я и позвонил Френсису Уайтингу, студенту-юристу, который проводит для меня подобные разыскания. Беда-то вся в том, что когда надо незаметно и кропотливо покопаться в финансовых документах, мой друг Хью заламывает несусветные суммы за свои услуги. Дружба дружбой, а... Этот вид работы прельщает его не больше, чем меня, а потому он уже давно придумал, как отделаться от моих просьб: его расценки мне не по карману.
Вот я и попросил Уайтинга выяснить все о Стерлинге и о его кабаке — взял ли он в аренду, купил, получил в наследство, проводил ли модернизацию или достройку, а если проводил, то как именно расплачивался. На вопрос, когда мне нужны эти сведения, я ответил «вчера», а Уайтинг посоветовал мне позвонить недельку назад, чтобы получить к сроку отчет о проделанной работе. Такой вот забавный паренек.
Потом я поочередно позвонил Серелли и Байлеру в надежде, что они прольют свет на это дело, подкинув мне какой-нибудь информации. Серелли был со мной до крайности нелюбезен: сожитель его убит, все счета предстоит оплачивать ему одному, а виноваты в этом мы с Миллером. Кроме того, надо будет отправлять тело Джорджа и все его имущество домой, в Плейнтон. Многовато для одного человека. А раз человек этот остался один, ему было плевать на всех остальных, так или иначе связанных с этим делом. Наш разговор оборвался на высокой ноте: Серелли послал меня по весьма распространенному адресу, а потом использовал трубку своего телефона, чтобы прихлопнуть комарика, неосторожно присевшего на рычаг.
Байлер тоже не слишком обрадовался моему звонку. Он был раздражен и озабочен — уже не знаю, Миллером ли, или чем-нибудь еще. Я недоумевал: отчего его настроение меняется ежеминутно — от полного счастья до тоски. У меня в кабинете он был не очень-то любезен, но это не шло ни в какое сравнение с нашим телефонным разговором. Понять его, конечно, было можно: Миллер обещал с ним расправиться, жена от него ушла, друга застрелили прямо на глазах. Но он твердил, что все нормально, все в порядке, дела наконец пошли на лад и он только никак не возьмет в толк: почему люди вроде Миллера или меня не оставят его в покое?