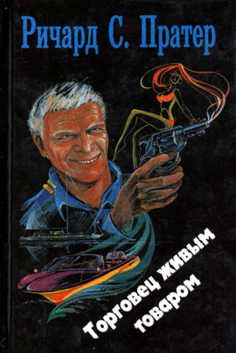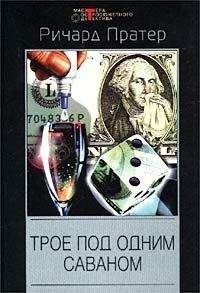— Смотрите, не окочурьтесь! — сказал я.
Сильверман слегка отшатнулся, уголки его рта опустились и глаза расширились от неожиданности:
— Что вы сказали?
— Я сказал: «Смотрите, не окочурьтесь!» Вы слишком разволновались, а ведь я всего лишь детек…
— Как вы смеете!
Я одарил его лучезарной улыбкой и продолжал:
— Я всего лишь изложил вам несколько фактов из жизни — моей жизни, в которой я некоторым образом заинтересован. Смотрите-ка, я позвонил, и вы пригласили меня войти. Я не взламывал дверь и не врывался насильно в ваш дом. Мы беседовали — и тоже по вашей инициативе. Я не упомянул о том, что Госс, кроме попытки подкупить меня, обещал еще и убить меня. А в моем характере имеется неприятная черточка, которая проявляется, когда всякие типы, вроде Роберта Госса и ему подобных, пытаются меня запугать или подсылают разных молокососов, стреляющих мне в спину.
Он пытался что-то сказать, наклонившись вперед и сузив глаза, но я закончил то, что начал:
— Эта черта моего характера заставляет меня продолжать проверку всех, кто может оказаться замешанным в преступлении. Вам придется согласиться, что ваши поступки кажутся очень подозрительными. Если вы невиновны, как маленькая сиротка Анни, то о'кей, я извиняюсь и пришлю вам бутылку тридцатилетнего арманьяка. Если нет, что же, тогда я извиняться не буду!
Он позволил мне закончить мою речь и поставил стакан на инкрустированный столик. Потом медленно произнес — и теплоты на этот раз в его тоне не было:
— Вы упомянули нескольких людей, которые пытались вас запугать, мистер Скотт. Я не стану делать ничего подобного. Это слишком отдает дешевой мелодрамой. Поэтому пусть то, что я сейчас скажу, будет просто советом.
Я промолчал.
— У вас есть хоть приблизительное понятие о том, сколько у меня денег? — продолжал он. — Сколько силы, сколько влияния? Деньги — это, конечно, сила. Но я имею в виду ту силу, которая приходит в результате власти над людьми, в результате связей, в результате авторитета и незапятнанной репутации. Я мог бы назвать дюжину имен, которых вы, возможно, и не слышали, но стоит мне сказать лишь слово любому из них, и вы не сможете больше продолжать свою деятельность, не сможете существовать, не чувствуя себя ежедневно и ежечасно отверженным отщепенцем и парией, может быть, даже просто не сможете существовать в буквальном смысле… — он тонко улыбнулся. — Мой совет вам очень прост: вы покинете этот дом и будете продолжать жить как вам заблагорассудится, пока вам не взбредет в голову снова сунуть нос в мои дела или интересы…
— И тогда вы раздавите меня, как клопа?
Он поколебался всего только одно мгновение. Затем странно усмехнулся тонкими сжатыми губами. Это была улыбка человека, который не хочет показывать собеседнику свои гнилые зубы.
— Если уж вы настаиваете на том, чтобы мы говорили на вашем языке, то да, я раздавлю вас, как клопа.
Я бы охотно сделал пару глотков бренди, но мой стакан был пуст и стоял на столике.
— Не хотите ли еще стаканчик? — спросил он, словно мы обсуждали до сих пор первое издание Генри Лонгфелло.
— Не сейчас. К тому же мне ваш коньяк не очень нравится без кока-колы…
Он поморщился. Казалось, это замечание причинило ему больше страданий, чем все остальные, что я ему наговорил.
Я встал. Ни один из нас не протянул руки.
— Спокойной ночи, — сказал я.
— Спокойной ночи.
Наступило неловкое молчание. И я повернулся, чтобы уйти. Но тут Сильверман заговорил снова, словно неожиданно вспомнил о чем-то, что он не успел сказать мне во время нашего разговора.
— О… минуточку, мистер Скотт!
Я обернулся.
— Вы ведь даже не взглянули на мою библиотеку! А я чрезвычайно горжусь ею.
Я заинтересовался, к чему он клонит.
— Эта коллекция не имеет себе равных нигде в мире, — продолжал он. — Я бы сам удивился, если бы назвал вам точную цифру стоимости книг, находящихся здесь.
Он подошел к стене и провел рукой по корешкам книг «ин фолио» и «ин кварто», большинство из которых были затянуты в потемневшую от времени кожу, другие были в странных переплетах из неизвестного мне материала.
Он жестом пригласил меня подойти поближе, и я повиновался со все растущим любопытством.
— Прелесть, верно? — спросил он. — Эта полка содержит мои самые любимые книги. Некоторые из них просто уникальны!
Его рука остановилась на книге в переплете из материала, которого я никогда в жизни не видел. Во всяком случае, на книге.
Он снял томик с полки.
— Например, эту книгу нашли части союзников неподалеку от Веймара перед самым концом второй мировой войны. Она принадлежала Герхарду Соммеру, мастеру заплечных дел в камере пыток…
— Бухенвалъд!.. — вырвалось у меня.
— Да. Она переплетена в человеческую кожу, мистер Скотт. Кожу очень аккуратно снимали с трупов мужчин и женщин, убитых в Бухенвальде. Жена коменданта лагеря, Ильза Кох, сама любила переплетать книги… Возможно, это ее работа.
Он ласково провел пальцами по переплету книги.
— Вы меня удивили, догадавшись, что это такое еще до того, как я сказал вам…
— А я удивлен, как вы можете держать у себя в доме такую пакость!
Он улыбнулся.
— Если я чего-нибудь пожелаю, я не собираюсь оправдывать мое желание: я просто осуществляю его. Любой ценой. Мне стоило много денег, сил и влияния, чтобы осуществить это!
Я начал понимать, зачем он вернул меня обратно минуту назад. Очевидно, он собирался ошеломить меня своими неограниченными возможностями. Он хотел доказать, что может делать все что угодно, и со всем чем угодно, будь то книга или люди — безразлично.
— Мне кажется, мистер Скотт, что на вас не произвели достаточного впечатления мои слова, — продолжал он. — Мой совет…
Он снял томик с полки.
— Нет, почему же, они были достаточно ясны, чтобы я понял основную идею. Не стоило так трудиться, чтобы вбить мне ее в голову.
— Наоборот, я боюсь, что мне именно придется… — он слегка подмигнул, — вбить вам ее в голову. Вы все еще не полностью осознали, как далеко я готов зайти, если затронуты мои интересы. А осознание этого могло бы избавить нас обоих от множества неприятностей…
— Спокойной ночи, мистер Сильверман. Вы высказали мне вашу точку зрения. Прошу простить меня, но я нахожу ваше общество несколько скучноватым.
— Прежде чем уйти, не подберете ли вы что-нибудь у меня почитать перед сном и не пропустите ли еще стаканчик коньяку?
Я недоумевающе нахмурил брови.
— Пожалуйста! Я вас серьезно прошу. Любую книгу, какая вам приглянется. Просто выберите что-нибудь наугад!
Это была довольно странная просьба, но я не имел ничего против ее выполнения. На полках лежали самые разнообразные образцы библиографического жанра: книги, отдельные страницы, свитки пергамента, старые рукописи, написанные на чем-то, что было, по-моему, папирусом. Один предмет обратил на себя мое внимание больше, чем остальные. Он был прямоугольной формы, узкий и длинный, покрытый богато вышитой тканью.
Я взял предмет и протянул его Сильверману.
— Это годится?
Он взял его у меня, странно усмехаясь.
— Великолепный выбор! Можно даже сказать — вдохновенный! — С этими словами он развернул материю и обнажил свою книгу или что это там было.
— Это досталось мне из Южной Индии, мистер Скотт, — продолжал он. — Перед вами древнейший манускрипт, написанный на пальмовых листьях, который, как я полагаю, содержит врачебные и другие секреты индусских браминов. Рукопись очень старая и очень дорогая. Практически она не имеет цены. Одни дощечки, предохраняющие листья, сами по себе бесценны. Посмотрите на нее, если интересуетесь.
Он буквально поймал меня на крючок. Я не из тех, кто падает в обморок при виде первого издания редкого собрания куплетов леди Чамм, но я заинтересовался.
— Как ни странно, — продолжал он, вручая мне манускрипт, — но, пожалуй, больше всего меня интересует искусство и литература Индии. Мне приходилось бывать в величественных пещерах Эллоры, в храмах Элефанта…
Я разглядывал манускрипт со все возрастающим интересом. «Дощечки», о которых он упомянул, представляли собой тоненькие деревянные пластинки наподобие тех, что употребляются при фанеровке мебели, но значительно тоньше. Между ними заключались сухие листья, испещренные загадочными письменами. Верхняя дощечка, «обложка», сделанная с изумительным мастерством, была украшена тончайшей резьбой и сверкала всеми цветами радуги. Даже мне, профану, это чудо показалось совершенно потрясающим, и я с легкостью поверил, что ему нет цены.
Манускрипт был очень стар. Краски, хотя и сохраняли до сих пор свой живой и яркий колер, кое-где поистерлись, потрескались и осыпались. На обложке были изображены пять сидящих фигур: четверо мужчин по краям в позах, напоминающих различные упражнения йогов, и в центре молодая индианка, сидящая со скрещенными ногами, упершись руками в бедра. Почти весь «фон» был золотым, и только по краям «обложки» шел тоненький бордюр из зеленых листочков, переплетенных между собой в причудливых комбинациях.