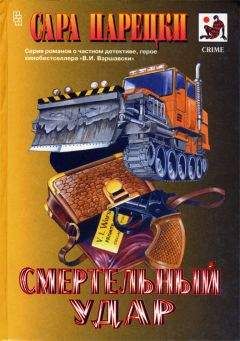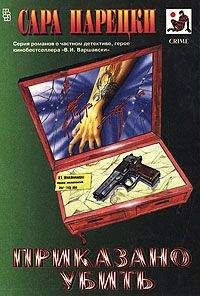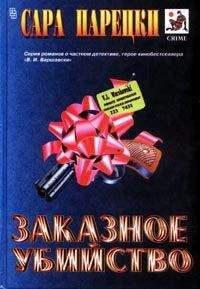Мистер Джиак медленно выбирался из-под кресла и груды разбитого стекла. На мгновение он остановился, глядя на пол, а затем на свои промокшие брюки. Потом, ничего не говоря, вышел из кухни. Я слышала его тяжелые шаги по коридору. Марта Джиак и я прислушались, когда хлопнет входная дверь.
Марту била дрожь. Я усадила ее в одно из пластиковых кресел и согрела воды в чайнике. Она молча смотрела на меня, пока я шарила в ее буфетах, разыскивая чай. Обнаружив «Липтон», плотно набитый в жестяную коробку, я заварила чай, налила чашку, добавив сахару и молока и хорошенько все размешав. Она покорно выпила все, давясь обжигающими глотками.
— Как вы считаете, теперь вы можете рассказать мне о Луизе? — спросила я, когда она осушила вторую чашку.
— Как ты узнала про это?
Ее глаза были лишены жизни, а голос рвался и дрожал.
— Сегодня после обеда меня навестил сын вашего брата. Каждый раз, когда я видела его, мне казалось, что мы уже знакомы, но я относила это к его сходству с портретами или изображением Арта на плакатах, а может, по телевизору. Но сегодня у меня была Кэролайн. Мы с ней горячо спорили, когда вошел молодой Арт, со вспыхнувшим лицом, возбужденный и растрепанный, и я неожиданно увидела, как сильно он похож на Кэролайн. Они могли бы сойти за двойняшек. Вы понимаете… просто я никогда прежде не сводила их вместе, потому что мне в голову не приходило это. Конечно, он так необыкновенно красив, а она всегда так всклокочена, что пока они оба не появились передо мной в одно и то же время, нельзя было обнаружить их поразительное сходство.
Она слушала мои объяснения, а лицо ее было искажено болью. На нем застыло напряженное выражение, как будто я читала ей лекцию на латыни, а она пыталась заставить меня поверить, что следит за моей мыслью. Она не произнесла ни слова, и я слегка подстегнула ее:
— Почему вы выгнали Луизу из дома, когда она забеременела?
Она посмотрела мне прямо в глаза с какой-то смесью страха и отвращения во взгляде:
— Оставить ее дома? Чтобы знали во всем мире об этом позоре?
— Это был не ее позор, но Арта — вашего брата. Как вы можете даже сравнивать эти две вещи?
— Она не попала бы… не попала бы в беду, если бы не поощряла его. Она видела, как ему нравилось, когда она танцует и целует его. Он… он имел слабость… Она должна была поберечься.
Мое отвращение было таким острым, что я едва удержалась, чтобы не кинуться на нее и не швырнуть ее головой в осколки под столом.
— Если вы знали, что он имеет слабость к маленьким девочкам, почему, черт возьми, вы подпустили его близко к вашей дочери?
— Он… он сказал, что не сделает этого снова. После того, как однажды я увидела его… играющим с Кони, когда ей было пять лет, я сказала, что расскажу об этом Эду, если он еще посмеет. Он боялся Эда. Но Луиза — это было для него слишком. Она была такой извращенной, она заманила его против его собственной воли. Когда мы узнали, что она ждет ребенка, она рассказала нам, как это случилось. И Арт объяснил, что она завлекла его против его воли.
— Поэтому вы вышвырнули ее на улицу. Если бы не Габриела, кто знает, что было бы с ней? Вы оба — пара ублюдков со своей ханжеской добродетелью.
Она выслушала мои оскорбления не дрогнув. Она не могла понять, почему я так взбешена. Ведь ее поступок, поступок матери, был совершенно логичен. Однако она видела, как я врезала ее мужу. Она не собиралась рисковать, взбесив меня еще больше.
— Арт тогда уже был женат? — спросила я.
— Нет. Мы говорили ему, что он должен найти жену и создать семью, иначе нам придется рассказать отцу Степанеку… рассказать священнику о Луизе. Мы пообещали, что ничего не скажем, если она уедет, а он создаст семью.
Я не знала, что сказать. Единственное, о чем я могла думать, так это о Луизе в ее шестнадцать, беременной, выброшенной на произвол судьбы, и о тех безупречных дамах из «Братства Святого Венцеслава», которые устраивали демарши перед ее крыльцом. И о Габриеле, спешившей, как рыцарь на белом коне, на выручку Луизе. В моей памяти всплыли и все их извечные оскорбления в адрес Габриелы — они считали ее еврейкой.
— Как вы можете называть себя христианами? Моя мать была в тысячу раз большей христианкой, чем вы. Она никогда не занималась ханжеской болтовней, она жила благочестиво. Но вы и Эд, вы позволили вашему брату соблазнить своего ребенка и затем называли ее порочной. Если бы на Небесах и вправду был Бог, он уничтожил бы вас за вашу дерзость, когда вы идете к его алтарю, бормоча о вашей праведности. Если там есть Бог, то моя единственная молитва о том, чтобы я никогда не оказалась к вам ближе чем на милю.
Я, шатаясь, поднялась на ноги. Мои глаза жгли слезы ярости. Марта вжалась в кресло.
— Я не ударю вас, — сказала я. — Что пользы было бы в этом для каждого из нас?
Я не успела еще выйти в прихожую, а она уже стояла на четвереньках, собирая разбитое стекло.
Пошатываясь, я шла к машине, ощущая какую-то тяжесть в желудке, сухость в горле и горечь во рту. Все, о чем я мечтала, это добраться до Лотти, не заезжая домой или в магазин ни за зубной щеткой, ни за сменой нижнего белья. Я стремилась к одному — немного разума и здравомыслия.
Я, словно расслабленная, ехала, положившись на везение. Сигнал клаксона на Семьдесят пятой улице мгновенно отрезвил меня. Далее я уже с осторожностью прокладывала свой путь через Джексон-парк, но чуть не столкнулась с велосипедистом, на бешеной скорости переезжавшим шоссе Номер 59. Но даже после этого происшествия стрелка на моем спидометре держалась на семидесяти.
Макс сидел в гостиной с Лотти. Они попивали бренди, когда я появилась. Я судорожно улыбнулась. С видимым усилием я вспомнила, что они сегодня ходили на концерт, и поинтересовалась, получили ли они удовольствие от музыки.
— Великолепно. Квинтет Целлини. Мы познакомились с ними в Лондоне, когда они только начинали после войны. — Макс напомнил Лотти про вечер в Уигмор-Холле, когда отключили свет, а они стояли и держали лампы-вспышки над нотами, чтобы их друзья смогли продолжить концерт.
Лотти рассмеялась и добавила к его воспоминаниям свои собственные о том, как она неожиданно выключила лампу.
— Вик! Я не разглядела твоего лица, когда ты вошла. В чем дело?
Я приказала своим губам изобразить улыбку.
— Ничего опасного для жизни. Просто странная беседа, о которой я как-нибудь расскажу тебе.
— Я должен идти, моя дорогая, — сказал Макс, поднимаясь. — Я слишком задержался, наслаждаясь твоим чудесным коньяком.
Лотти проводила его до двери и вернулась ко мне.
— В чем дело, любимая? — Слово «любимая» она произнесла по-немецки. — Ты выглядишь как смерть.
Я снова попыталась улыбнуться. Вместо этого я, к своему ужасу, обнаружила, что всхлипываю.
— Лотти, как мне казалось, я видела все отвратительные вещи, на которые способны люди в этом городе: мужчин, убивающих друг друга за бутылку вина; женщин, плеснувших щелок в лица своих любовников. Не знаю, почему то, что я сегодня узнала, так сильно расстроило меня.
— Вот! — Лотти поднесла бренди к моему рту. — Выпей и приди в себя. Попробуй рассказать мне, что случилось.
Я проглотила его. Он смыл привкус желчи. Лотти держала мою руку, а я выложила ей всю историю… как я обнаружила сходство между молодым Артом и Кэролайн и как подумала, что с его матерью, наверное, должен быть связан отец Кэролайн. Оставалось узнать, имел ли его отец отношение к бабушке Кэролайн.
— Эта часть расследования была не такой ужасной. — Я сделала еще глоток бренди. — То есть я хочу сказать, что это, конечно, ужасно. Но от чего я просто заболела, так это их отвратительное показное благочестие и упорство, с которым они настаивали, что виновата Луиза. Ты понимаешь, как они растили ее? Как строго следили за двумя сестрами? Ни свиданий, ни мальчиков, ни разговоров о сексе. А потом появился брат ее матери. Он приставал к одной девочке, а они позволили ему остаться, чтобы он мог приставать к другой. В результате они наказали ее.
Мой голос перешел в крик. Похоже, я была не в состоянии контролировать свой голос:
— Этого не может быть, Лотти! Этого не должно быть. Я должна набраться сил и остановить все это, чтобы подлость не продолжалась, но у меня пока нет никаких сил.
Лотти обняла меня и молча согревала в своих объятиях. Спустя некоторое время мои всхлипывания иссякли, но я продолжала тыкаться головой в ее плечо.
— Ты не можешь вылечить мир, любимая. Я знаю, что ты способна понять это. Ты можешь одновременно заниматься только одним человеком, и то в очень ограниченный период времени. Тогда для отдельных личностей, которым помогаешь, можно добиться большего эффекта. Только мегаломаньяки, Гитлер и ему подобные, полагают, что они в ответе за жизнь каждого. Ты находишься в нормальном мире, Виктория, в мире несовершенств.