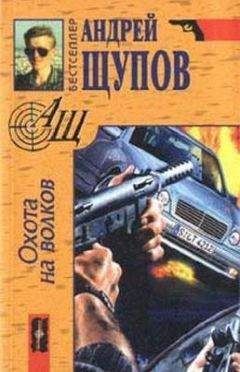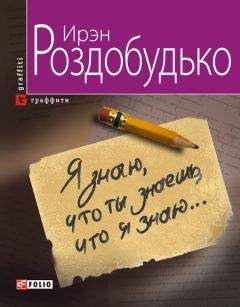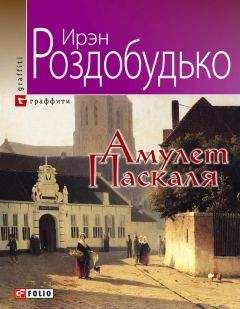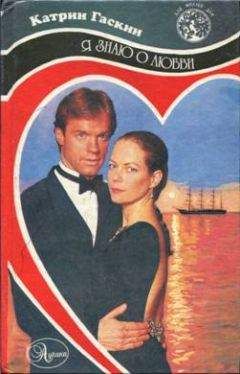Козырнув по-солдатски скупо, не донеся руки до головы на добрый вершок, капитан кивнул своим богатырям и первым вышел из кабинета. Подталкивая стволами задержанных, за ним потянулись автоматчики.
— Ну-с!… А теперь потолкуем по душам. И еще раз обсудим минувшую ноченьку. Боюсь, к сегодняшнему инциденту она имеет самое прямое отношение.
— При них будем беседовать?
Поморщившись, Константин Николаевич покосился на Валентина, перевел взгляд на жующего яблоко Бориса. Поразмыслив, попросил:
— Сходи, Валентин, посмотри, как там Аллочка.
То, что сказанное коснулось его одного, Валентина неприятно кольнуло. Однако он послушно покинул кабинет. И даже не пожал плечами, как сделал бы это штатский. Да он и забыл, пожалуй, то время, когда был таковым.
Аллочка сидела на кухне и пила кофе с рогаликами. В это же самое кофе капали ее слезы, туда же время от времени она подливала коньяк. На этот раз Валентин готов был ее понять.
— Угостишь? — он расположился напротив.
— Рогаликом или коньяком?
Он улыбнулся вопросу.
— И тем, и другим. Думаю, самую капельку, мы заслужили.
— Это точно, — она усмехнулась.
— Нет, в самом деле, ты вела себя молодцом!
— Ты так считаешь? — глаза ее глянули столь прямо и откровенно, что Валентин смутился.
— В общем да.
— Брось, какое уж тут молодечество… — она пододвинула к нему бутылку. — Что у них там? Очередное секретное заседание?
Он кивнул. Вспомнив, что его выпроводили, а Бориса оставили, сердито добавил:
— Паны потому и дерутся, что чубы не у них трещат.
— А как же иначе, — Аллочка навалилась грудью на стол, приблизив лицо, печально шепнула: — Если в ближайшую пару лет не выскочу замуж, наверняка превращусь в алкоголичку. Сан фот, как говорят старички французы.
— Зачем же так? — Валентин растерялся. — Чего это ты вдруг?
— А я не вдруг! Незамужние они, знаешь ли, все либо сходят с ума, либо спиваются. Третьего не дано. Это у вас есть рыбалка, домино и лыжи, а у нас только это.
— Ерунда какая! В твои-то годы — и плакаться?
Она погрозила ему пальцем.
— Все потому, что подлый вы народ, мужчины! Ладно… С ума, конечно, не сойду, но сопьюсь определенно. Я это чувствую, Валь…
Жизнь никогда не казалась ему легким времяпрепровождением, но последние месяцы являли собой нечто особенное. С горькой очевидностью Леонид выяснил, что совершенно не способен заниматься несколькими вещами сразу. Одна-единственная забота немедленно заслоняла весь горизонт, и если к ней присоединялась вторая и третья, Валентин ощущал себя бомбой, готовой вот-вот лопнуть. Собственно говоря, многоруким и многоглазым Цезарем он никогда и не хотел быть, однако простое это открытие неприятно поразило его, занозой засело внутри. Леонид не считал себя тупицей и был действительно не глупее других, и все-таки, когда к проблеме ночных фобий нежданно-негаданно прибавилась еще одна, он сник. Мозг выбросил белый флаг, интуиция сконфуженно примолкла. Еще совсем недавно ему с лихвой хватало уличных приключений, а теперь вот появилась проблема Ольги и ее мужа. Всякий раз, начиная размышлять о сложности взаимоотношений с Ольгой, Леонид напрочь отрывался от ратных дел и возвращался к ним с немалым трудом, тревожно понимая, что его «ОЗУ» перегружено и две эти столь рознящиеся жизни в нем попросту не желают уживаться. Наиболее трезвым казалось перечеркнуть жизнь полуночника-авантюриста, но и это было уже невозможно после той наполненной грохотом выстрелов ночи, после того, что им поведал Олег. Теперь Леонид знал про полковника и про кончину Паука, про чертову «Сеть», подобно золотой рыбке, готовую исполнить любые кровавые прихоти.
Разумеется, внутренний хаос сказывался на внешнем поведении. Апатия и раньше посещала его дом, теперь он с ней не расставался. Лежа на тахте, Леонид лениво перебирал струны. Гитара вздыхала и цедила ругательства, истеричные переборы сменялись вялыми глухими аккордами. Игрой это назвать было нельзя. Под занавес, когда пальцы уже немели, начинало выходить и вовсе что-то заунывное, без затейливых вариаций — все время одно и то же. Аналогичным образом, должно быть, буксовал его разум. Небо, выпущенное из рук заботливых атлантов, давило теперь на него всей своей тяжестью. С этим надо было как-то мириться, но как, если тяжело, если ноет в висках и трещит позвоночник? Гибель группировки Паука, «Сеть», трупы на улицах, арест фашиствующих группировок, обвинение последних в ночных бесчинствах… И с другой стороны — простецкая философия Максимова, Ольга с ее неженской жесткостью, с ее слезами и вконец запутанными личными отношениями.
Это не походило на привычное состояние тоски, — Леонид воспринимал происходящее, как очевидную перегрузку. Крест взвалили на плечи без всякого предупреждения, и колени его подломились. Следовало перевести дух, чуточку оклематься, и пальцы Леонида перебирали не струны, а секунды и минуты. Эту особенность времени он тоже, по счастью, познал — умение лечить все и вся…
* * *
К деду Костяю он зашел за советом, но уже через пять минут понял, что никаких советов испрашивать не будет. Такое иногда с ним бывало. Вдруг приходило ясное осознание, что нужных слов язык не подберет и ожидаемого разговора не получится. Да и не один дед Костяй сидел дома. Макая седые усы в кружку и громко хлюпая, за столом расположился Матвей, пенсионер из соседнего подъезда. Покрякивая и нахваливая чай, он продолжал стращать деда Костяя, пересказывая все последние новости, дополняя их своим особым мнением:
— …Они, слышь-ка, и на проспект главный сунулись. Там танки, а им хоть бы хрен. В казино «Альфонсино» ворвались, все поломали, охране по шеям накостыляли, а распорядителя с собой забрали. Потом и его, и тех, что из «Чайки-Дауна», слышь-ка, в карьере нашли. Трупов тридцать, говорят! И Осьминог там с Бобром, и Валиев, что «Деловым Домом» руководил. У меня, слышь-ка, девять акций было из этого самого «Делового Дома», и ни копейки до сих пор не выплатили.
— Теперь уже и не выплатят.
Матвей сокрушенно закивал.
— Теперь, конечно, нет, только хоть наказали супостатов и то ладно. Власть говорит, фашисты, а я думаю, какие же это фашисты, если самую грязную грязь подтерли? Помните, сколько судились с Осьминогом? Газетчика убили, следователь один исчез, и ничего — все сошло с рук. В журнале потом фотография была — Осьминог и генерал милиции Каесников где-то на пикнике в шезлонгах. Конечно, какая уж тут управа на них найдется? А эти вон как шустро взялись! Сцапали и разрешения ни у кого не спросили.
— Так ведь и их, кажись, поймали?
— Знамо, поймали. У нас тех, кто полезен, в первую очередь ловят.
Заметив нетерпеливый взгляд Леонида, Матвей засобирался.
— Ладно, соседушка, спасибо за чаек. Пойду я. Итак засиделся…
Уже у порога он обернулся, заговорщицким шепотом огорошил:
— Я, слышь-ка, если выборы какие начнутся, за этих самых фашистов, может, и голосовать пойду. Наши-то все — вор на воре. А они хоть за народ радеют.
— Но ведь фашисты!
— Так свои же, не немчура какая-нибудь…
Заперев дверь за соседом, дед Костяй покачал головой.
— Видал, как народ перебаламутило! Вот, Леня, дела какие нынче творятся. Лет бы десять назад и подумать о чем таком убоялись, а теперь, ишь! — голосовать ходим — да еще за кого ни попадя.
— Ты-то хоть на улицу не высовывался?
— Ночью нет, конечно. Хотел было на площадь сходить — на коммунистов поглядеть, да спина разболелась. Оно и к лучшему. В них говорят тоже пуляли. Правда, больше издалека, но кого-то зацепили. Утром даже специальные машины ездили, раненых подбирали.
— Вранье, наверное.
— Может, и так, только все равно жуть берет. Тревожно, Валь!
— Так это нам, дед, тревожиться. Наше дурное время, не ваше. Вы хоть в покое каком ни на есть пожили.
— Да уж какой там покой! Из войны в войну, да не разгибаясь у станков! Только что при Брежневе — малость и продохнули, так опять же — бездельничать приучили, и жрали один хлеб да молоко. Не было, Лень, на Руси покоя. Отродясь не было.
— Похоже, и не будет.
— Может, и так. Не положено отчего-то России покойно жить… — дед Костяй завздыхал. — Только жаль ведь вас. Мы-то и впрямь пожили. Вон и уцелели даже, а вы-то сумеете уцелеть?
— Сумеем, наверное. Куда ж мы денемся?
— Это бы хорошо, а то старею я, Ленюшка, а на старости оно думается завсегда о внуках.
— Чего это ты стареешь?
— А того и старею, — дед Костяй приподнял над головой кепку. Редкие волосенки давно уже не скрывали его плешивости, напоминая свалявшуюся шерстку больной крысы. Причесывать подобную шевелюру у деда, по всей видимости, не было никакой охоты. Поэтому он ее просто прикрывал головными уборами — кепками, шляпами, шапками — в любое время года, даже в собственной квартире.