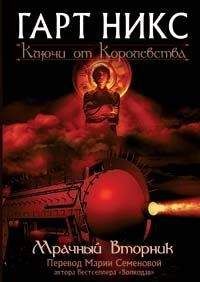Антон Чижъ
Божественный яд
2 ДЕКАБРЯ 1904, ВТОРНИК, ДЕНЬ МАРСА
В нетопленой комнате, пропитанной тоскливым запахом давно нежилой квартиры, уже четверть часа сумерничал плечистый господин невысокого роста. Идеально пригнанный сюртук скрывал его излишнюю грузность. Он привольно разместился в дряхлом вольтеровском кресле, закинул ногу на ногу и покойно сложил руки на коленях.
Стороннему наблюдателю могло показаться, что светский щеголь ожидает в тишине тайного и сладострастного свидания. Но опытный взгляд сразу отметил бы выправку спины и короткий ежик волос. Несомненно, господин в партикулярном платье больше привык к офицерскому кителю.
Где-то в стороне невидимой входной двери осторожно повернулся ключ. Господин вынул лепешку массивных часов, впрочем, дешевого польского серебра и одобрительно хмыкнул. Стрелки показали аккурат три часа пополудни. Тот, кого он ждал, отличался похвальной пунктуальностью.
Из-за занавески вынырнула стройная тень, остановилась и слепо огляделась. Наконец, заметив господина, устроившегося в затемненном простенке, тень кивнула, подхватила спинку венского стула и села на скрипучий краешек.
Жандармского корпуса полковник, а именно такой чин носил господин, ожидавший во тьме, не встал и не подал руки. Однако манкирование приличиями не смутило гостя.
Полковник позволил себе несколько ничего не значащих вопросов о здоровье и погоде, нетерпеливо пропустил ответы и сразу перешел к делу.
— Что нового у нашего протеже? — спросил он с удивительной интонацией, в которой искренний интерес смешался с начальственным равнодушием.
Тень, вполне привыкшая к мутным очертаниям собеседника, принялась подробно докладывать.
Полковник терпеливо слушал, ничем не выражая своего отношения. Он ни разу не кивнул, не поддакнул, не поддержал и не сказал: «Интересно!» или хоть: «Вот как?!» Дождавшись конца недолгого монолога, полковник не шевельнулся.
Фигура неуютно поерзала на деревянном седалище, но не посмела оборвать тягостное молчание.
— Благодарю вас, дражайший Озирис… — медленно проговорил полковник, по-военному одернув полы сюртука, — эта информация будет иметь значительный интерес. Но для вас есть особое поручение. Куда интереснее возни с попом Гапоном и его фабричной братией.
— Но позвольте, господин Герасимов…
— Не позволю, господин Озирис! — отрезал полковник. Из внутреннего кармана сюртука он вынул маленькую картонку фотокарточки и протянул ее.
Салонный снимок запечатлел дородного господина с обширной залысиной и жидким нимбом кудрявых волос. Господин сильно смахивал на самодовольного волжского купчика.
Тень, названная Озирисом, решительно возвратила карточку.
— Прикажете следить за гостинодворцами или сразу отправите в филерский пост?
— Упаси Бог! Вы для нас такой дорогой агент! Даже слишком… Получаете больше моего заместителя. Но это к слову… Однако я удивлен, что с вашим знанием человеческой натуры вы сделали такие поспешные выводы!
Господин Герасимов блестяще владел умением делать тонкие комплименты подчиненным. Как, впрочем, и дергать еще двумя рычагами управления человеческой натурой: страхом и деньгами. С Озирисом он предпочитал использовать лесть. Во всяком случае, агент сразу попался на заинтересованности.
— И кто же, с позволения сказать, этот упитанный сатир?
— Отставной профессор Петербургского университета Серебряков Александр Владимирович…
Полковник нарочно сделал паузу, как хороший рассказчик, интригующий публику. От него не ускользнуло то обстоятельство, что агент заинтересовался. Не давая возбужденному любопытству Озириса перегреться, Герасимов быстро изложил суть дела.
Четверть века назад Серебряков проходил свидетелем по делу студенческой террористической группы «Свобода или смерть!». Самого профессора тогда не удалось привлечь, так как прямых улик против него не нашли. Он продолжал преподавать под негласным надзором. Но три года тому назад, без видимых причин, его жизнь резко изменилась. Он вышел в отставку и занялся бесплатными общедоступными чтениями. Но вместо лекций по химии, которую он преподавал раньше, профессор стал просвещать общественность о… забытых богах ариев.
Тревогу вызывали и странные слухи из университетских кругов. Ученые мужи в кулуарных беседах болтали о Серебрякове с нескрываемым цинизмом, однако упорно распространялись слухи о том, что он открыл что-то в древних текстах. Сплетни, умноженные фантазией, передавали, что профессор якобы пытается создать философский камень или нечто подобное.
Филерское наблюдение доставляло также странные донесения. У себя на даче в Озерках профессор зачем-то завел корову, подолгу пропадал в полях и вообще что-то варил, смешивал и выпаривал на заднем дворе.
Слухи множились, а чем занимается Серебряков, оставалось загадкой.
— …Так что, дорогой Озирис, вам следует познакомиться с этим господином и выяснить, над чем же он работает. Такое дело осилите только вы! — закончил полковник на проникновенной ноте.
Но Герасимов слукавил. На самом деле сменить задание пришлось потому, что Озирис давно приносил откровенную липу. Видимо, революционное окружение отца Гапона раскусило предательство. Посему полковник был вынужден направить агента к самому легковерному врагу империи — русской интеллигенции.
Агент для приличия поломался, давая понять, что может и не согласиться, но под мягким натиском комплиментов благополучно сдался. Следующую встречу назначили на 2 января, а при любой срочности Герасимов просил телефонировать ему немедля.
Не прощаясь, Озирис исчез за занавеской. Хлопнула дверь черного входа. В квартире, которая много лет служила местом конспиративных встреч руководителей «охранки» и их личных агентов, начальник Петербургского охранного отделения Александр Васильевич Герасимов остался один.
Не зажигая свет, он прошел в прихожую, нашел пальто и накинул на плечи. Стоя в кромешной темноте, полковник почему-то подумал, что напрасно дал это поручение Озирису. Агент, конечно, толковый, но слабо поддается контролю, как бы дров не наломал. Герасимов, не боявшийся никого и ничего, вдруг ощутил смутное предчувствие надвигающейся беды.
31 ДЕКАБРЯ 1904, ПЯТНИЦА, ДЕНЬ ВЕНЕРЫ
1
Степан Пережигин, дворник дома № * по Третьей линии Васильевского острова, вчера с раннего вечера отправился в трактир Степанова выкушать чайку. Но, как на грех, повстречал вологодских мужиков — артельщиков-ледорубов. Земляки выпили за встречу, и время понеслось так весело, что за полночь половой выволок тепленького Степана на улицу за шкирку. В полном беспамятстве, на четвереньках Пережигин добрался до дворницкой, упал и забылся.
Он подскочил в седьмом часу утра от страшной догадки: ворота на ночь не запер! Если околоточный узнает, будет по шее, как пить дать.
Степан прислушался. Вроде во дворе тихо. Может, и пронесет еще. В углу на громадном деревенском сундуке, закрывшись старым одеялом, дремала жиличка.
Степан накинул тужурку, завязал фартук с бляхой и, прихватив лопату, выскочил во двор.
Снегу насыпало по щиколотку. Пережигин протопал до подворотни. Так и есть — распахнуты во всю ширь.
Дворник вышел на улицу, огляделся — околоточного нигде не было видно — и принялся сгребать снег к углу дома. Неожиданно лопата уперлась во что-то твердое.
Степан поднажал и замер.
Из сугроба торчал женский ботинок на шнуровке с маленьким каблучком.
Пережигин выронил лопату и, забыв снять шапку, перекрестился. Он отпрыгнул от снежной кучи, метнулся в одну сторону, кинулся в другую, ругнулся, вытащил из кармана свисток и дал две длинные трели.
— Степан, что шумишь, людям спать не даешь? — младший городовой Второго участка Васильевской части Иван Балакин запыхался от бега. Полчаса назад он вышел на утренний обход и уже собирался вернуться, когда услышал сигнал тревоги.
Бледный дворник показал на сугроб.
— Вона, что…
Городовой нагнулся, придерживая форменную шапку.
— Ах ты… — растерянно пробормотал он.
— Я и говорю… — веско поддержал дворник.
— Надо же, видать ночью замерзла. Шла, упала и околела.
— Видать, выпимши…
— А ты где был, стоеросина? — закричал городовой.
— Так, это как полагается, ворота запер и того…
— «Того»! Перегаром за версту разит! Чего стоишь, разгребай!
— Кто, я?! — дворник отшатнулся.
— Нет, я!
Пережигин мелко перекрестился, опасливо взялся за лопату и зажмурился.
— А ну-ка, погоди… — вдруг остановил его городовой.
Из снега, рядом с ботинком, виднелась окостеневшая кисть руки. И самое странное — руку к чулку прижимала серая тряпица.