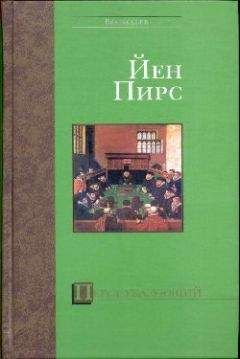Это Гров пригласил меня поселиться в Новом колледже, когда каменщики и штукатуры изгнали меня из моего дома, сделав его непригодным для жилья. После кончины члена факультета его комнаты пустовали, а колледж все откладывал избрание замены, попечительский совет, по своему обыкновению, решил сдать комнаты, пока на них не предъявит свои права новый ученый доктор. Никогда прежде, даже в бытность мою студентом, я не питал склонности к совместной жизни и, получив первое свое повышение, с радостью оставил ее позади. Как член факультета я, разумеется, имел право вступить в брак и жить в собственном доме, и потому миновало уже более двадцати лет с тех пор, как я жил бок о бок с другими членами факультета. Такое испытание поначалу развлекало меня, а уединенная комната в колледже вполне подходила для ученых занятий. Я даже пожалел об ушедшей юности и вновь возжелал той вольности, когда все еще только предстоит и ничто не решено бесповоротно. Но чувство это вскоре развеялось, и очарование Нового колледжа быстро потускнело. За исключением доктора Грова все члены факультета были подлого звания, многие продажны и безнравственны и крайне небрежны к своим обязанностям. Я все более и более отходил от их круга и возможно меньше времени проводил среди них.
По вечерами Гров нередко был моим собеседником, ибо взял в привычку стучаться ко мне, когда желал подискутировать. Поначалу я прилагал усилия к тому, чтобы расхолодить его, но отделаться от него было непросто, и под конец я нашел, что почти приветствовал это нарушение моего покоя, ведь присутствие Грова не позволяло мне излишне предаваться мрачным мыслям. И диспуты, какие мы вели, неизменно были высочайшего свойства, хоть мы и очень не подходили друг к другу. Гров изучил и усвоил приемы схоластов, я же постарался избавиться от них как стесняющих воображение. И как тщился я ему указать, новую философию просто невозможно выразить в терминах определении, аксиом и теорем, всего арсенала формальной аристотелевой логики. Для Грова же новая философия была шарлатанство и обман, ибо он полагал, держась этого мнения как догмы, будто красота и тонкости логики охватывают все возможные перспективы, и если о взятом для примера случае невозможно рассуждать доказательно на основе его форм, это свидетельствует об изъяне примера.
– Уверен, вы найдете Кола занимательным собеседником, – сказал я, когда он сообщил мне, что итальянец отобедает в колледже этим самым вечером. – Со слов мистера Лоуэра я понял, что он большой поклонник опытов. Поймет ли он ваш чувство юмора, не могу предугадать. Думаю, я сам пообедаю сегодня в колледже, погляжу, чем все закончится.
Гров просиял от удовольствия и, помнится, отер платком красные, воспаленные глаза.
– Великолепно, – сказал он – Составим троицу, а потом может, разопьем бутылочку вместе и устроим настоящую дискуссию. Я распоряжусь, чтобы ее принесли. Я надеюсь весьма с ним позабавиться, и так как лорд Мейнард обедает сегодня с ними, я покажу ему, как умею вести диспут. Тогда лорд Мейнард поймет какому человеку достанется его приход.
– Надеюсь, Кола не сочтет за оскорбление, что его используют подобным образом.
– Уверен, он ничего не заметит. А кроме того, у него прекрасные манеры, и он вполне умеет держать себя в обществе. Совсем не похож на итальянцев, как их живописует молва, ведь я всегда слышал, будто они раболепны и подобострастны.
– Насколько я понял, он венецианец, – сказал я. – Говорят, они холодны, как их каналы, и так же заперты на все засовы, как темницы дожей.
– Я не нахожу его таким. Он, конечно, большой путаник и повторяет все ошибки юности, но вовсе не холоден и не скрытен. Впрочем, вскоре вы сами увидите. – Тут он помедлил и нахмурился. – Совсем забыл! Только я успел предложить вам распить бутылочку, как должен взять назад свое приглашение.
– Почему?
– Из-за мистера Престкотта. Вы про него знаете?
– Слышал кое-что.
– Он послал мне записку. Просит прийти к нему. Вы знали, что я когда-то был его воспитателем? Скверный мальчишка, не слишком умный и никакой склонности к наукам. То само обаяние, а то вдруг дуется и буянит. Да еще и подвержен припадкам ярости и склонен к суевериям. Как бы то ни было, он желает повидаться со мной по всей видимости, угроза петли заставила его задуматься о своей жизни и своих грехах. Идти мне не хочется, но, думаю, придется.
И тут я принял внезапное решение, сознавая, что раз уж я намерен заключить сделку с Престкоттом, так лучше сдетать это как можно скорее. Может статься, это была минутная прихоть, или, быть может, ангел-хранитель отверз мне уста. Возможно, я просто не доверял внезапному благочестию Престкотта, который, как мне сказали всего лишь днем раньше, не выражал ни малейшего раскаяния.
– Разумеется, вам не следует идти, – твердо сказал я. – Ваши глаза крайне воспалились, и уверен, прогулка под ночным ветром еще больше им повредит. Я пойду вместо вас. Если ему нужен священник, думаю, я справлюсь не хуже вас. А если он желает видеть именно вас и никого другого, вы сможете пойти к нему позднее. Спешки нет. Суд начнется не ранее, чем через две недели, а ожидание сделает мальчишку сговорчивее.
Не потребовалось особого искусства убеждения, чтобы склонить его принять мой совет. Успокоенный тем, что мятущаяся душа не останется без утешения, он от чистого сердца поблагодарил меня за доброту и признался, что вечер, посвященный тому, чтобы дразнить эксперименталиста, много больше ему по душе. Я даже заказал за него бутылку, так как глаза его сделались совсем плохи. Ее доставили от моего виноторговца и оставили у подножия лестницы, прикрепив к ней записку с моим именем. Именно эту бутылку отравил Кола, вот почему я знаю, что предназначалась она мне.
Заглянув в памятную тетрадь, я вижу, что тот день провел как обычно. Я посетил службу в церкви Пресвятой Девы Марии, как делаю это всегда, ибо, бывая в Оксфорде, отдаю предпочтение университетской церкви, и выдержал утомительную (и полную ошибок) проповедь на тему текста из Евангелия от Матфея, пятнадцать, двадцать три, в которой даже самый благочестивый прихожанин не нашел бы достоинств, пусть даже мы и пытались отыскать их потом в обсуждении. За свою жизнь я выслушал таких немало и нахожу, что папистское богослужение пробуждает у меня даже некоторую симпатию. Пусть это противно религии, пусть это нечестивая ересь, но католицизм хотя бы не подвергает столь жестоко верующих пустым речам напыщенных глупцов, преисполненных более любви к звуку собственного голоса, нежели любви к Господу.
Потом я занялся делами. Корреспонденция отняла у меня около часа, лишь немногие письма в тот день требовали ответа, и остаток утра я провел за работой над моим трактатом по истории алгебраического метода и с легкостью написал несколько абзацев, в которых неопровержимо доказал лживость притязаний Виета, все открытия которого, на самом деле, сделаны тридцатью годами ранее мистером Хэриотом.
Мелочи. Но они занимали меня всецело, пока наконец я не облачился в мантию и не спустился в нижнюю залу, где Гров представил мне Марко да Кола.
Не могу выразить словами удушающее омерзение, какое я испытал, когда мой взор впервые упал на человека, лишившего Мэтью жизни так беспечно и с такой жестокостью. Все в его внешности отвращало меня, и настолько, что мне показалось, будто горло у меня сжалось, и на мгновение я подумал, что меня сейчас вытошнит. Его учтивость лишь оттеняла его жестокосердие, его изысканные манеры напоминали мне о его бессердечии, дороговизна его платья – стремительность и бездушие его преступления. Господь свидетель, я не мог снести мысли, будто это смрадное раздушенное тело находилось вблизи Мэтью, что эти пухлые ухоженные руки гладили прекрасную юношескую щеку.
Я испугался тогда, что мое лицо выдаст мои мысли, поведает Кола, что мне известно, кто он и что он собирается совершить. Может статься, ужас в моем лице побудил его скорее нанести удар и совершить покушение на мою жизнь той же ночью. Не знаю. Оба мы вели себя с наивозможной любезностью; и ни один, мнится мне, не выдал себя и потом, и всем прочим обед, полагаю, показался совершенно обыкновенным.
Кола преминул рассказать об этом обеде, перемежая оскорбления хозяевам с преувеличенными похвалами его собственному искусству вести беседу. О, какие превосходные речи, какие продуманные ответы! С каким терпением он лил масло на разбушевавшиеся воды и исправлял вопиющие ошибки выживших из ума бедняг, превосходящих его годами и опытом! Приношу мои извинения, если даже по прошествии стольких лет я не могу воздать должное его остроумию, проницательности и мягкосердечию, ибо, признаюсь, тогда эти высокие качества всецело от меня ускользнули. Вместо них я увидел (или мне показалось, будто я видел, ведь я могу ошибаться) беспокойного человечка, в котором манерности было более, нежели манер, разряженного как попугай и с вкрадчивыми претензиями на ученость, нисколько не скрывавшими, сколь поверхностны его познания. Нарочитость придворных манер и пренебрежение к тем, кто радушно оказал ему гостеприимство, были очевидны всем, кто имел несчастие сидеть с ним рядом. Напыщенность, с какой он извлек кусок ткани, дабы прочистить нос, вызвала всеобщие насмешки, а его едкие замечания – в Венеции все пользуются вилками, в Венеции вино пьют из стеклянных бокалов, в Венеции то, в Венеции это – возбудили лишь омерзение.