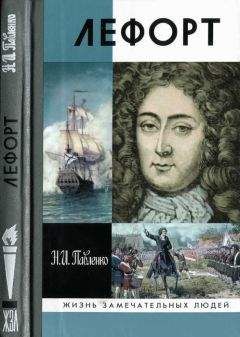…Пчелы, натрудившись за день забираются в ульи. Солнце завалилось за горизонт и фиолетовой краской расцветило легкие перьевые облачка на горизонте. Соловей так отчетливо громко защелкал в орешнике, что в ушах ломит.
— Ну, засиделись мы, — потягивается Захар. — А мне ведь завтра к обеду следует штиблеты уряднику Степанову закончить. Надо встать пораньше. Малышня, шасть по палатям!
Анюта — та дело свое знает: всем уже постелила, перины пуховые взбила, свежее полотенце к умывальнику повесила.
Отец любит дочь. Он ласково улыбается и говорит Анфисе:
— Мать, а невеста у нас складная растет. Весело погуляем на свадьбе!
Увы, мечты отцовские оказались напрасными. Погулять не пришлось. Судьба распорядилась иначе.
Перед самым новым годом, проснувшись как всегда с первыми петухами, Захар долго от страха не мог придти в себя.
— Что с тобой, муженек? — участливо спросила Анфиса.
Покачивая задумчиво головой, Захар молвил:
— Плохой сон мне привиделся. Будто открывается дверь нашей избы и входит в дом ангел, но только не светлый, а весь какой-то темный. «Что тебе?» — спрашиваю. «Да вот, за вами пришел. Собирайтесь в дальнюю дорогу», — «Может, только за мною?» — «Я ведь сказал, Захар: за всеми вами. Вы теперь в другом месте нужны. Не возьму лишь вашу Анюту. У нее путь иной».
Задрожал подбородбк у Анфисы, перекрестила она детей и тихо сказала:
— На все воля Божья! Может твой сон, Захарушка, так, пустое видение одно.
— Но насчет Анюты, так это совпадает! — жарко возразил Захар, который никак не мог придти в себя. — Ведь я отправляю ее в Кимры к сестре, пусть отвезет им кое-что из наших запасов. Лавочник Савватей едет, обещал взять с собой девчонку. «Дня за три-четыре, говорит, расторгуюсь и на возвратном пути ее с собой прихвачу».
…Часов в девять, когда на дворе было еще серо, Анюта села на дерюжку, которую Савватей постелил в сани, мать накинула на дочь старый овчинный полушубок и сказала:
— С Господом!
На крыльце, зябко ежась, стояли в одних рубахах брательники. Отец поставил в сани куль кру-пичатой муки, туесок с медом, осьмуху домашнего вина. Еще прежде Анюта спрятала на груди десятирублевую ассигнацию, которую отец приказал отдать сестре.
— Погода подымается, — сказал Захар, задумчиво поглядев на небо, закрытое низкими лохматыми тучами. — Вон как по дороге поземка крутит!
— Это нам ничего, — весело говорил Савватей, туже перепоясывая светлый тулуп. — Домчим одним пыхом!
Добрый жеребец, давно нетерпеливо уминавший копытами снег, с легким скрипом сдвинул сани и бойкой иноходью полетел по накатанной дороге.
Анфиса, томимая мрачными предчувствиями, долго-долго глядела вслед ездокам, пока они не скрылись за дальним поворотом.
…В тот же вечер семья Кирилловых поела грибов, соленых осенью, и двое мальчишек в страшных мучениях скончались уже к полудню следующего дня. Еще через несколько часов, испытывая сильную головную боль и помрачения сознания, выворачиваямая постоянной рвотой и сводимая судорогами, испустила дух Анфиса. Последним помер Захар — на рассвете следующего дня.
А еще через сутки, как раз в полдень 31 декабря, Савватей прикатил из Кимр. Он притормозил у дома Кирилловых. Из саней вылезла Анюта, улыбавшаяся в предвкушении встречи с домашними.
Но встретили ее чужие люди, толпившиеся в сенях и горнице. На сдвинутых столах стояли четыре гроба.
Схоронив родителей, Анюта переселилась в Кимры. Андрей Абрамович, муж тетки Марии, 48-летний крепкий человек, работавший механиком на ткацкой фабрике, почесывая большой, в синих прожилках нос, рассудил:
— Девчонке теперь в деревне делать нечего, пропадет там одна. Надо продать дом в Никольском, Анюта же пусть к нам переселяется. Будет по хозяйству помогать. Все едино, бездетные мы!
Так и решилась судьба сироты.
Ее поселили в угловой чуланчик, где она спала на большом сундуке, а в маленькое высокое оконце едва брезжил свет — солнце загораживала стена.
Поначалу дело пошло неплохо. Трудилась Анюта от зари до зари: бегала за продуктами на базар и в лавки, месила тесто, готовила обед, ставила самовар, следила за курами, чистила двор и мыла полы в доме, стирала белье. И все делала не только смиренно, без ропота, но как-то весело, ухватисто. Тетка Мария восторгалась:
— Ох, Анька, шустра ты. Вся в покойных отца-мать пошла.
Андрей Абрамович, раскуривая папиросу согласно кивал лысой головой:
— Как пчелка трудится. И собою краля. Тетка Мария благодушно улыбалась, радуясь бесплатной помощнице:
— Такая в девках не засидится! А тебе, Анька, и капитал к свадьбе лежит — двести рублев за проданный дом. Твое приданое!
Но и тетка, подобно несчастному Захару, ошибалась в судьбе воспитанницы. Вскоре начались такие дела, что не приведи Господи!
На общую беду, послала как-то тетка Мария Анюту на фабрику к мужу — какое-то дело приспичило. Там ее заметил 20-летний юнец в узких панталонах и лакированных штиблетах — сын хозяина фабрики. Парень он был порченый, к дамскому полу приученный. Делом он никаким не занимался, а приходил на отцовскую фабрику приставать к ткачихам. Ведь не всякая девица отважится отказать в ласках хозяйскому отпрыску!
Сам хозяин не только сквозь пальцы смотрел на забавы сыночка, но когда ему жаловались, недовольно морщился:
— Ну, что с этой девкой случится? Не убудет… Вот и проказничало это великовозрастное дитя.
Увидал он Анюту, оскалился:
— Ах, какой замечательной красоты, прямо королева! Почему я тебя раньше не видел? В каком цеху работаешь? Может новенькая?
Анюта, не подозревая худого, все про себя рассказала.
Навязался юнец, провожать пошел. С той поры стал домой к Анюте приходить, нахально себя ведет, шагу не дает девушке ступить. И время выбирает такое, чтобы она одна в доме была. Раз тетка Мария, подходя к дому, услыхала крик о помощи. Влетела она в прихожую, а там юнец Анюту на пол повалил, одежду на ней рвет.
Схватила она скалку, отходила по спине незваного гостя, а тот выскочил на улицу, кулаком грозит:
— Скажу отцу, он твоего мужа с фабрики уволит. Наплачешься!
Вечером держала тетка совет с Андреем Абрамовичем. Решили:
— От греха подальше отправить Анюту в Питер.
Дело в том, что соседский купец как раз туда собирался и обещал ее «приспособить в дом к хорошим людям».
Петербург приятно поразил Анюту, которая кроме Кимр других городов не видала. Она любовалась громадными красивыми домами, стремительным бегом легких колясок, изящно одетыми дамами и господами, зеркальными вывесками и витринами богатых магазинов и кафе.
«Хорошими людьми», про которых говорил купец, оказался его 25-летний свояк Ермолай Белов. Это был коренастый щеголеватый человек с бесцветными навыкате глазами, жидкими белесыми волосами с пробором посредине, за которым Ермолай заботливо ухаживал.
Ермолай служил приказчиком большого магазина, как раз напротив Николаевского вокзала. Это был сметливый расторопный парень, твердо решивший нажить капитал и верою-правдой служивший владельцу магазина Федору Федоровичу Скоробогатову.
Искренне восхищаясь хозяином, пробившийся из мальчика на побегушках до владельца обширной торговли, ворочавший многими тысячами, Ермолай в восторгом произносил:
— Федор Федорович человек ума просторного! Деньги лопатой гребет, совком подгребает, а.трубку ассигнациями раскуривает.
Скоробогатов в свою очередь тоже отличал Ермолая. Если даже в самых богатых магазинах на бойком Невском приказчик самое большее получал за рабочий день целковый, то Ермолаю хозяин платил рубль с полтиною, да ко всем большим праздникам подарки подносил — «за усердие!»
У хозяина росла единственная наследница — дородная, вечно словно чуть заспанная, с гладким сытым лицом, дочь Олимпиада. И хотя она не была лишена некоторой привлекательности, но все у нее как-то неудачно с замужеством складывалось. Ей в грезах все мерещился какой-то сказочный Иван— царевич, а сватались сыновья знакомых с детства купцов -Федулы да Сидоры. Вот и надувала губки Олимпиада: «Не ндравится мне он, какой-то скучный, интересу в нем никакого!»
Отец свирепел:
— Почто выкобениваешься? Сурьезных женихов отвергаешь. Вот выдам за пастуха, так будешь с ним свиней пасти…
Но прежде пастуха появился лихой урядник Казачьего полка Левченко, стройный красавец с закрученными кверху усами, решительными манерами и вдрызг проигравшийся в карты. Он лихо гарцевал на горячем жеребце под окнами Олимпиады, заламывал на затылок фуражку с золотой кокардой и посылал воздушные поцелуи.
Впрочем, как покажет жизнь, поцелуи были не только воздушными.
Ермолай сидел против потемневшего от времени большого зеркала в узорной деревянной раме, поплевывал на пальцы и тщательно ровнял пробор. При этом, важно прерывая разговор в связи со сложностями своего занятия, он говорил Анюте, примостившейся рядом на кончике стула: