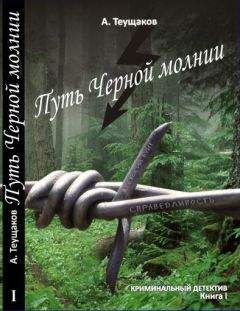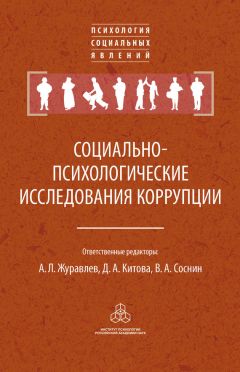— Командир, о чем ты, — улыбнулся Сашка, — не стоит благодарностей, я же не зверь, и мне совсем не хотелось чьей-то смерти.
— Я слышал, как ты освободил с другими парнями учительницу — ваш поступок заслуживает уважения.
— Лучше не напоминай мне о тех мразях. Ненавижу таких подонков!
— Исходя из твоих поступков, я сделал вывод, что ты мог случайно оказаться на стороне бунтовщиков.
Сашка прищурился и грубовато отреагировал:
— Сети плетешь начальник, на чувствах моих решил сыграть.
— Ты неправильно меня понял, я имел в виду твой характер и твои человеческие поступки.
Сашка остался удовлетворен ответом лейтенанта.
— Ты знаешь, сколько погибло при бунте человек? — спросил Брагин.
— Конечно знаю, но погибли они во время боевых действий. Заметь командир, ни один активист не был убит при волнениях.
— А сколько друг друга поубивали и искалечили.
— Это они свои масти перебирали, устроив междоусобные разборки, — Сашка старался увести разговор в сторону от своих друзей.
— Ладно, Саш, Бог с ними, суд решит их виновность и причастность к бунту. Ты-то хоть понимаешь, что тебе грозит?
Саша молча кивнул.
— Ничего-то Александр ты не понимаешь: девяти человекам, применяют расстрельную статью, и тебе в том числе.
— Обвинить можно любого, нужно еще доказать его виновность.
— Ты разве сомневаешься в этом?
— А я уже ничему не удивляюсь, многим из наших уже вправили мозги.
— Так может тебе не артачиться, а пойти навстречу следствию.
— Командир, по-твоему я должен предать память своих погибших друзей и тех, что остались живыми.
— Хорошая в тебе черта — благородство, но этим ты не поможешь себе.
— К чему ты клонишь?
— Поверни дело так, что тебя запугали и заставили участвовать в бунте, на тебе только останется избиение активистов, по крайней мере, тебе дадут лет пять, но не высшую меру.
— Командир, я понимаю тебя — это твоя работа, не выполнив ее как положено, ты потеряешь ее, но у меня нравственная сторона, я действительно не могу предать своих друзей и товарищей.
— Саш, мне кажется, ты начитался книжек о благородных пиратах и разбойниках, и не вполне осознаешь своего реального положения. Вор и блатные повели себя, как звери, взбунтовав мужиков и таких, как ты, они-то преследовали свои, шкурные интересы.
— Если ты говоришь о Дроне, то глубоко ошибаешься. Он не призывал убивать козлов и ментов, а только выдвигал коллективные требования, и он не прятался за спины других, а смело шел до конца. Просто вы нас за людей не считаете, и чтобы, как-то оправдать свои действия, вам необходимо навешать на нас ярлыки убийц и погромщиков. Я уже неоднократно говорил об этом следакам и комитетчикам.
Брагин не перебивал его и продолжал слушать.
— Не нужно всех людей грести под одну гребенку. Мне, к примеру, не нужны ни ваши смерти, ни заключенных, я всего лишь противник беспредела со стороны администрации. Вы гнете свою линию, и вам дела нет до наших проблем: в каких условиях мы содержимся, да ты и сам понимаешь командир, ты ведь тоже подневольный.
— В отличие от тебя я соблюдаю законы и живу в обществе, а не сижу в тюрьме.
— Сейчас ты говоришь так, потому — что условия пребывания у нас разные, сменил бы ты шкуру на время, я думаю, заговорил бы по-другому.
— Не знаю, может по-своему ты и прав, но я зарабатываю деньги, а не краду их из кармана граждан.
— Я тоже не краду, мать меня этому не учила.
— Вот потому Александр, я уверен, что ты из другого теста, тебе не место среди блатных.
— На свободе — да! Но здесь я сам решаю, как мне жить и чью сторону принимать, слишком много несправедливости творится вокруг: и со стороны ментов, и со стороны зэков.
— Ладно, Александр, ты парень не глупый, разберешься, что к чему, но только время у тебя ограничено, скоро состоится суд, а там с тобой не будут демагогию разводить. Жаль мне тебя, хороший ты парень.
— Скажи командир, тебя послали провести со мной беседу?
— Нет Саш, у меня здесь брат работает, старшим инспектором оперчасти, когда он случайно узнал, что ты тот парень, спасший мою жизнь, он кое-что сделал, чтобы оградить тебя от неприятностей. Это его нужно поблагодарить, что ты не сидишь больше в камерах с отморозками и не гниешь по карцерам, а помогаю я тебе от чистого сердца, как присуще человеку, не желающему оставаться в долгу.
Сашка проникся уважением к режимнику — лейтенанту, что-то человеческое исходило из глубины его души. Наверное, это было чувство взаимопомощи.
— Я буду выступать свидетелем на судебном процессе и дам правдивые показания в твою сторону. Саш, ты еще молод, и как человек ты просто затерялся в массе обстоятельств, оказавшихся не в твою пользу. Мне хочется хоть как-то тебе помочь. Я знаю, как заключенные относятся к нам — людям в погонах, но уверяю тебя, и среди нас есть нормальные, способные разобраться и понять вас, как ты выразился: «Не нужно всех грести под одну гребенку». Говорю я это не их чувства солидарности к тебе, а по моему глубокому убеждению: в любых условиях необходимо оставаться человеком, и ты показал себя именно таким. Если б ты видел благодарные лица моей жены и маленькой дочери, когда я рассказал, кому обязан жизнью, — лейтенант на миг замолчал, — пусть у нас с тобой разные взгляды на жизнь и наши убеждения расходятся во многом, но таких как ты, редко встретишь. Тебе можно сказать светит «вышка», а ты продолжаешь отстаивать интересы своих друзей, и к тому же не хочешь запятнать их память. Я не за предательство и измену, а многие из вас уже предали своих товарищей на следствии. Скажу тебе по секрету, у тебя хорошие товарищи, и ты не один такой, видимо ты умеешь выбирать себе друзей по духу.
Сашка удивился либеральным взглядам офицера режимной части, и тому, как он дал оценку его действиям.
Анатолий Брагин поднялся, пожал крепко руку Сашке, и передал ему большой, увесистый пакет.
— От меня и от моей дочурки, не отказывайся — это от чистого сердца, — и подойдя к двери, стукнул в нее два раза.
Когда гость выходил из комнаты, Сашка окликнул его:
— Командир, спасибо тебе за все!
— Тебе спасибо, и от брата моего тоже, терпимости тебе.
Саша глубоко был тронут откровенностью лейтенанта, и только теперь до него дошло, кто прекратил его мытарства по беспредельным хатам и карцерам.
Шло время: месяцы, год, как затихли отголоски вспыхнувшего бунта. Потихоньку память притухала, и уже не так напоминала заключенным о событиях годовой давности. Следствие затягивалось, уже десятки томов уголовных дел были подшиты и готовы к закрытию. Прокуратура строила свое черное обвинение. Приближался ответственный и тяжелый момент в жизни обвиняемых.
Сашка еще раз встретился с мамой, опять помогли прежние знакомства, теперь уже переросшие в крепкую связь. Воробьева часто посещали мысли, касаемые одного человека. Он терялся в догадках, вспоминая, где ему приходилось слышать имя Аркана: «Уж не тот ли это Аркан, который встретился нам с дедом на болотах. Имеет ли, что общего тот Аркан с теперешним, который постоянно подогревает нас в тюрьме?».
Если это так, то Воробьев отдавал себе отчет, что будет с ним, выплыви тайна наружу, а может он ошибается, мало ли по Союзу бродит Арканов. Имея справедливый характер, он рассуждал: «Мы с дедом поступили правильно, и кто бы не был этот Аркан, я всегда сумею доказать свою правоту».
Сашка потихоньку приобретал славу, почет и уважение среди братвы и мужиков. Тюремные слухи, они ведь всегда имеют почву под собой: здесь, в изоляторе, так просто человека не оговоришь и не скажешь о нем того, чего он не заслуживает. Он умел себя держать с администрацией СИЗО, никогда не заискивал, и сколько бы он не попадал под ментовский пресс, оставался несгибаемым.
С пацанами и мужиками он всегда держал себя предельно вежливым и внимательным. Случались незначительные разборки или кто-то с кем-то цеплялся, он всегда находил аргументы для того, чтобы развести по — мирному, ссорящихся сокамерников. Уроки Дрона, Макара и Сибирского во многом помогли ему разобраться в отношениях между людьми, он стал еще более рассудительным. Опасение — стать приманкой для нераскрытого тихушника, делали его немногословным и осмотрительным. Материнская черта — грамотно и убедительно доказывать свою правоту, делала его почитаемым среди заключенных.
Однажды произошел случай, заставивший по-иному взглянуть сокамерников и даже администрацию на поступки Воробьева. Все, кто его знал, видели, что Сашка не промах в отношении кулачных разборок, и потому в наглую, мало кто решался с позиции силы диктовать ему свои условия. Тюремщики тоже имели некоторое представление о его статусе бесстрашного спортсмена — бойца.