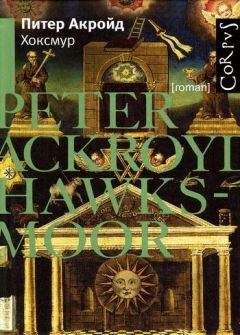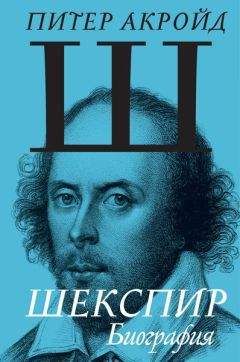Череда ясных дней не помогла Томасу воспрянуть духом — яркость его тревожила, и он инстинктивно искал теней, которые отбрасывало зимнее солнце. Спокойствие приходило к нему лишь в час перед рассветом, когда тьма словно медленно уступала дорогу дымке, и в этот самый час он просыпался и садился к окну. Еще он пристрастился к блужданиям: порой он ходил по улицам Лондона, повторяя про себя какие-нибудь слова или фразы, и однажды нашел рядом с Темзой старый сквер, где были установлены солнечные часы. По выходным или ранним вечером он сидел тут, размышляя о перемене, произошедшей в его жизни, а вконец отчаявшись, думал о прошлом и будущем.
Как-то холодным утром он проснулся и услышал кошачий визг, а может быть, человеческий крик; медленно поднявшись с постели, он подошел к окну, но ничего не увидел. Он быстро оделся, причесался и тихо прошел мимо спальни матери — стояла суббота, и она решила, по ее собственному выражению, «поваляться». Было время, когда он залезал к ней в постель и, пока она спала, наблюдал за тем, как в лучах солнечного света, проникавших к ней в комнату, дрожит пыль, однако на этот раз он прокрался вниз по лестнице. Он отворил дверь и переступил порог; когда он вышел на Игл-стрит, стук его башмаков по заиндевевшему тротуару эхом отдавался от домов. Затем он миновал Монмут-стрит и зашагал вдоль церковной стены. Он видел, что кто-то идет впереди него, и, хотя в этом не было ничего необычного — люди в местах вроде этого часто вставали рано и шли на работу, Томас замедлил шаг, чтобы не слишком приближаться. Но когда оба они свернули на Коммершл-роуд, фигура в каком-то темном пальто или плаще тоже как будто замедлила шаг; впрочем, человек не подавал никаких признаков того, что ему известно о десятилетнем мальчике, идущем позади.
Томас резко остановился и сделал вид, будто загляделся на витрину магазина грампластинок, хотя яркие плакаты и глянцевые фотографии, сиявшие в неоновом свете, теперь казались такими же незнакомыми, как случайные предметы, поднятые водолазом с океанского дна. Рассматривая то, что выставлено в витрине, он стоял неестественно тихо и неподвижно, и все-таки через минуту, когда он повернулся и пошел дальше, другой был все так же близко. Томас медленно двинулся вперед, отмеряя шаг за шагом; могло показаться, будто он увлечен известной игрой, когда нельзя наступать на трещины тротуара (а иначе, как говорят дети, твоя мать спину сломает), если бы не его взгляд, прикованный к черному плащу фигуры впереди.
Над спиталфилдскими домами вставало солнце, тусклый красный круг, подобный глазу рептилии; казалось, человек по-прежнему идет вперед, но в то же время он приближался — Томасу были совершенно отчетливо видны его седые волосы, завитками спадавшие на ворот черного плаща. Тут голова медленно повернулась, и вот перед ним улыбающееся лицо. Томас громко закричал и побежал прочь, наискосок через улицу; он бежал обратно, откуда пришел, снова к церкви, и все это время слышал звук шагов того, кто гнался за ним (хотя, по правде говоря, это могло быть эхо его собственных шагов). Он повернул за угол Коммершл-роуд, а потом, не оборачиваясь, побежал по Табернакл-клоуз — в конце переулка были ворота церкви. Он знал, что сумеет протиснуться через ограду целиком, но никакому взрослому это не удастся; возможно, фигура с Коммершл-роуд еще не повернула за угол, и тогда он, может быть, проникнет незамеченным в саму церковь. Протискиваясь через ворота, он увидел вход в туннель и еще — то, что убранные доски до сих пор не заменили. Туда он и побежал в поисках укрытия. Он наклонился, неуклюжий и запыхавшийся, полез в сырой проем; ему снова послышалось движение за спиной, и он в панике рванулся вперед, не дожидаясь, пока глаза привыкнут к темноте. Он не знал, что перед ним ступеньки, и полетел вниз; нога под ним подвернулась, он растянулся у подножия лестницы и, лежа там, едва успел ухватить взглядом свет из отверстия лаза, который тут же исчез.
Очнулся он от стоявшего в коридоре запаха, который забрался к нему в рот и образовал там лужицу. Он лежал все там же, где упал, одна нога подоткнута под тело; пол коридора был холодный, и он чувствовал, как этот холод поднимается, проникает в него. Казалось, его окружает глубокая тишина, но, когда он поднял голову, чтобы прислушаться повнимательнее, напрягая все чувства в попытке прояснить ситуацию, до него донеслось слабое бормотание не то ветра, не то негромких голосов, которые могли идти с улицы или даже из самого подземного хода. Он попытался встать, но, когда ногу снова пронзила боль, упал обратно на землю; не смея прикоснуться к ней, он беспомощно смотрел на нее не отрываясь, а потом прислонился к сырой стене и закрыл глаза. Он бездумно повторял слова, которые один мальчик как-то перед уроком написал мелом на доске: «Кусок угля лучше, чем ничего. Что лучше, чем Бог? Ничего. Следовательно, кусок угля лучше, чем Бог». Потом он пальцем вывел на потрескавшемся, разбитом полу собственное имя. Он слыхал рассказы детей о «доме под землей», но в этот момент особого страха не испытывал — он давно жил в темном мире своих собственных тревог, и никакое вторжение реальности не могло показаться ужаснее.
Теперь в неясном приглушенном свете он видел очертания коридора перед собой, а на выгнутой крыше у себя над головой — какую-то надпись. Он повернул голову, хотя это вызывало боль, но вход, через который он сюда проник, казалось, исчез, и он уже не знал в точности, где находится. Он попытался двинуться вперед — в округе часто говорили (и взрослые, и дети), что в этом лабиринте есть один лаз, ведущий прямо в церковь. Конечно, надо попытаться двигаться именно в этом направлении. Он отполз назад, в центр коридора, и приподнялся на руках; опираясь на локти, он подтягивал вслед за ними все тело, ни на миг не опуская при этом головы, чтобы видеть, что перед ним. Медленно продвигаясь вперед, он решил было, что услышал какой-то звук, скребущийся звук в конце коридора, откуда только что выбрался; он в ужасе повернул голову, но там ничего не было видно. Теперь, несмотря на холод, разлитый в воздухе, Томасу было жарко; почувствовав, как по лбу и крыльям носа сбегает пот, он принялся слизывать языком капли, набухавшие на верхней губе. Боль в ноге, казалось, пульсировала вместе с биением сердца, и он начал вслух вести счет, но тут же заплакал при звуке собственного голоса. Он полз мимо комнатушек или камер, которые находились за пределами его обыкновенного зрения, и все-таки старался двигаться тихо, чтобы не беспокоить тех, кто мог обитать в этом месте. Мучения заставили его забыть, что он по-прежнему движется вперед, хотя рот его был раскрыт и он, задыхаясь, ловил воздух.
Потом с ним произошла перемена: боль в ноге исчезла, и он почувствовал, как пот на лице высыхает. Остановившись, он сменил позу, снова прислонился к холодной стене, а после — голосом ясным, спокойным — затянул песенку, выученную много лет назад:
Возведем из кирпича,
Кирпича, кирпича,
Возведем из кирпича,
Что, хозяйка, скажете?
Краток век у кирпича,
Кирпича, кирпича,
Краток век у кирпича,
Что, хозяйка, скажете?
Он пропел ее три раза, и голос его эхом раздавался в коридорах и комнатах, пока не замер в каменных нишах. Взглянув на свои ладони, сделавшиеся грязными от усилий, он поплевал на них и попытался вытереть их начисто о брюки. Потом, забыв о руках, он с огромным старанием исследовал коридор, оглядываясь вокруг с тем заинтересованным выражением, какое бывает у детей, думающих, что за ними наблюдают. Он провел рукой по стене с обеих сторон от себя и над самой головой, ощупывая трещины и наросты, которые там образовались; сжав кулак, он постучал по стене, и в ответ раздался приглушенный звук, словно внутри имелись пустоты. Потом Томас издал глубокий вздох, свесил голову и уснул. Вот он выходит из коридора; вот уже прошел через верхнюю дверь, и перед ним открылась белая колокольня; вот он стоит на колокольне и готовится нырнуть в озеро. Но ему было страшно, и страх его превратился в человека. «Зачем ты сюда пришел?» — спросила она. Он повернулся к ней спиной и, опустив глаза на пыль, покрывавшую его башмаки, воскликнул: «Я — дитя земли!» Потом он почувствовал, что падает.
Когда ее сын не вернулся к чаю, миссис Хилл начала волноваться.
Она то и дело поднималась к нему в комнату, и с каждым разом пустота, встречавшая ее там, тревожила ее все сильнее; она взяла книжку, оставленную на стуле, и заметила, как аккуратно ее сын вывел свое имя на титульном листе; потом она наклонилась рассмотреть модель, которую он мастерил: миниатюрный лабиринт, а прямо над ним — ее лицо. Наконец она снова вышла из комнаты, тихо прикрыв за собой дверь. Медленно спустившись вниз, она села перед камином и стала раскачиваться взад-вперед, представляя себе все плохое, что могло с ним случиться: она видела, как его заманивает в машину незнакомец, видела, как его сбивает на дороге грузовик, видела, как он падает в Темзу и его уносит приливом. И все-таки она инстинктивно верила в то, что, если задержится на подобных сценах в достаточных подробностях, ей удастся их предотвратить, — тревога была для нее своего рода молитвой. А потом она вслух произнесла его имя, словно заклинание, способное вызвать его к жизни.