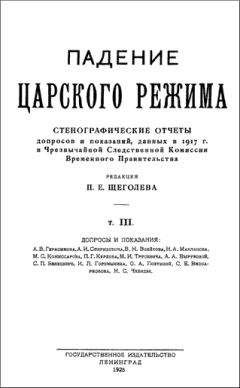Кроме того, в зале сидела парочка репортеров из крупных газет, и покрасоваться перед ними своими передовыми взглядами господину судье очень хотелось. В ходе судебного разбирательства, по настоянию судьи, был сделан упор на недостаточность умственного и нравственного развития Ивана Жилкина в связи с его подростковым возрастом. Какой, мол, спрос с мальчугана, у которого в голове еще ветер гуляет, которого, к тому же, турнули из гимназии за дурь! Одним словом, подростковый возраст Вани, а точнее, «недостаточность его ума и нравственных устоев, которые еще не закрепились в нем, как в личности» (так сказал адвокат), послужили смягчающим обстоятельством. Жилкин не только не был осужден, но и отпущен на все четыре стороны прямо из зала суда, что вызвало хоть и реденькие, но аплодисменты у немногочисленной либеральной публики. Правда, швед или норвежец Аксель Ёнссон заявил, что скоро суду вновь придется лицезреть Жилкина в качестве подсудимого, поскольку он за законопротивный проступок не был наказан, что и развязывает руки потенциальным преступникам, но его реплика явилась гласом вопиющего в пустыне.
Однако оказалось, что Аксель Ёнссон как в воду глядел. Через три месяца после данного судебного разбирательства Иван Жилкин вновь был арестован, уже по подозрению в ограблении лавки бакалейных и колониальных товаров Натана Мудкевича на Михалковском шоссе и похищении из кассы двухсот пятидесяти четырех рублей с копейками и двух ящиков папирос «Пушка». При обыске оба ящика папирос и часть денег были найдены, потом нашелся и свидетель, который видел Жилкина, крутящегося за день до ограбления возле лавки, а затем последовало и признательное показание самого Ивана. На этот раз, проведя в Таганской тюрьме три месяца до судебного разбирательства в качестве подозреваемого, он вернулся в нее после суда в качестве осужденного на два года и шесть месяцев. Срок свой Жилкин отсидел сполна, после чего продержался на воле чуть более полугода и вновь загремел по статье «Мошенничество с использованием доверчивости» Уложения о наказаниях уже на четыре года…
Конечно, не все это было написано на том листочке, что передал Лебедев Воловцову. Но догадаться опытному следователю, как и что было, не представляло особого труда. Теперь надлежало найти этого Ивана Жилкина и побеседовать с ним на отвлеченные темы. В частности, где он был и что делал семнадцатого сентября сего года…
Глава 7. Рудник «Надежда», или Жорка Сухорукий
Зарентуйская каторжная тюрьма — центральная тюрьма Первого разряда Нерчинской каторги, созданная специально для отбытия наказания за особо тяжкие преступления. А что значит крытка первого разряда? На сей вопрос бывалые бродяги ответят одним словом: «злющая»!
Более полутораста лет добывается в здешних штольнях свинец и серебро, что накипели в недрах земных за сотни тысяч лет, и конца-края этой добыче не видно. Похоже, что большая жила здесь залегает, ежели столько годков усиленно богатую руду выбирают, да все выбрать никак не могут. Верно, горы Нерчинского края наполнены серебром, свинцом и оловом по самую макушку. А олово в Нерчинском горном округе — единственное место в империи, где оно есть в промышленном масштабе. Да и золотишка хватает, поскольку Горный Зарентуй также показал при шурфовках благонадежные золотоносные признаки. Но золото в основном на Нерче и Каре, а здесь главный добываемый металл — серебро. Поскольку же работать в шахте в столь забытый богом край поедет далеко не всякий, даже за хорошее жалованье, а серебро, свинец и олово державе ой как нужны (без преувеличения, каждый день), то труд арестантов приходится как нельзя кстати. И платить им практически не надо, ибо одна десятая от заработанных денег, что причитается каторжанам по закону, — капля затрат в море прибытка…
Зарентуйская каторжная тюрьма рассчитана на триста человек — на каждый этаж по сотне человек. А наказание отбывают в ней около пятисот арестантов. Камеры-казармы переполнены, воздух в них спертый и вонючий, на деревянных нарах матрасы сплющенные, как блин. Надзиратели все, как на подбор, злющие, жалости не ведающие, — сущий ад! Ан нет, это еще не ад. Ад — в штольнях. Это Георгий понял, когда их сводили, как выразился помощник начальника тюрьмы Мозолевский, «на экскурсию».
Штольня, в которую повели Деда, Георгия и Сявого, звалась «Надежда»… К чему было придумано такое название? Может, к тому, что ежели забьет каторжного при взрыве буровой скважины насмерть осколками камней, кончатся его мучения на этом свете? В этом и есть надежда на избавление от мук каторжных?
Или придавит горой, когда отломится отбитая порода?
А может, надежда в том, что получит он скорое увечье и будет освобожден тюремным врачом от тяжкого труда?
Может, еще для чего придумано. Но явно не для веселого.
Из тюрьмы их вывела конвойная стража. Тюремные надзиратели, кто дежурил в эти сутки, тоже были здесь: при шашках и винтовках. Инструкция у охраны простая: привести заключенных к месту работы, охранять во время работы, увести обратно в тюрьму, а при попытке бегства поймать или застрелить. Просто, как дважды два…
Штольня «Надежда» начиналась бревенчатым сарайчиком, что стоял у самой подошвы горы и примыкал к ней своей тыльной частью. Это было преддверие ада, в котором надлежало очутиться через минуту Георгию и Сявому. Деда Мозоль, как звали заключенные помощника тюрьмы Мозолевского, «в гору» не взял, оставил снаружи: по возрасту ему должны были найтись работы наверху.
В сарай вошли через воротца. Тотчас пыхнуло теплом, словно вошли в предбанник.
— Зипуны снять, — скомандовал Мозоль.
Георгий, Сявый и еще семеро каторжных разделись. Стражники достали из мешка плоские фонари, зажгли в них свечи и раздали их заключенным.
— Добро пожаловать в чистилище, — усмехнулся Мозоль и растворил деревянную дверь, что была в горе. Рудник «Надежда» встретил заключенных темнотою бездны. «Оставь надежду, всяк сюда входящий», — процитировал строки из «Божественной комедии» Данте Мозолевский и первым шагнул в темень…
Чувство боязни редко посещало Георгия. Он гнал его от себя прочь, и это у него получалось. Но когда он вслед за Мозолевским, Сявым и Харей ступил в рудник, им овладел какой-то бессознательный страх, будто не было никого рядом и ему одному необходимо было идти в непроглядную темень, освещаемую фонариком со свечечкой менее, чем на расстояние вытянутой руки. Мрак от этого делался плотнее и гуще, чувство безысходной тоски, что едва ли не самое страшное на каторге, овладело им настолько крепко, что его зазнобило, будто от мороза, хотя из мрака веяло теплом и даже духотой. Захотелось немедленно вернуться назад, броситься на камни и завыть…
— Здесь ступени, — услышал Георгий глухой голос Мозолевского и почувствовал, что опускается. Семь или восемь ступеней круто вели вниз, а потом они пошли внутрь горы, и над ними была необъятная масса камней и скал, что угнетало и давило.
Невольно Георгий вытянул руку вперед и вбок и коснулся дощатых стен. Они были мокрыми. Через дощатый потолок тоже капало…
Когда глаза приноровились к темноте, можно было уже различать коридор, узкий, длинный, тянущийся вдаль. Сажень. Еще сажень, еще одна… Верно, два десятка саженей пройдены. Какая-то дверь. Что за ней? Скорее всего, такая же безысходность.
Мозоль открыл эту дверь. За ней мрак был еще гуще. Это штольня, где велись работы.
Идти становилось все труднее, поскольку под ногами рытвины и камни. Посередине коридора — желоб, по которому сочилась вода. Он был закрыт досками, чтобы удобнее ходить, а, главное, катить тачку. Говорят, раньше каторжному первого разряда за бузу и неподчинение начальству или попытку к побегу приковывали тачку к рукам. Так он с ней и ходил: в штольню, на обед, в нужник, в казарму или камеру-одиночку. И спал так же, прикованный к этой тачке. Наказание это вроде отменили, но кто помешает применить его к особо провинившемуся колоднику и ныне?
Стены штольни представляли собой каменные глыбы разной формы, осклизлые, холодные, ржавые и сырые на ощупь. Фонарная свечечка едва освещала спину идущего впереди Хари. Его рубаха вспотела у шеи и под мышками….
— Это пошла подпорода: известняк, сланец, — словно из бочки или дна колодца доносился до Георгия голос помощника смотрителя тюрьмы Мозолевского. — А за ней — идет порода…
Начали встречаться люди. Одни в рубахах, а кто вообще по пояс голые. Духота, как в бане. Из-за пара, образованного от духоты, в штольне стоял густой туман. Ад, сущий ад…
Или это только кажется? Ведь такого, что сейчас видели в неясном свете фонарной свечечки Георгий и еще восемь каторжан, для кого и была устроена Мозолевским эта «экскурсия», нельзя было себе представить и в кошмарном сне…
Люди «рубили породу», то есть отбивали молотами подпороду, обнажая породистую глыбу, а потом, по указке распорядителя работ из вольных, который здесь наблюдает за работами, «брали ее на лом», а иными словами, вынимали ломами эту глыбу из своего места. Она падала под ноги — надо было успеть отскочить, дабы она не раздавила ступни, — и другие каторжане клали ее на носилки или в тачки. Порода складывалась в бадью, что стояла возле шахты, — вот она, отвесная труба, идущая от вершины горы и до самой ее подошвы. Без нее каторжане, работающие в штольнях, задохнулись бы, хотя воздух, поступающий через шахту в штольни, это капля в море.