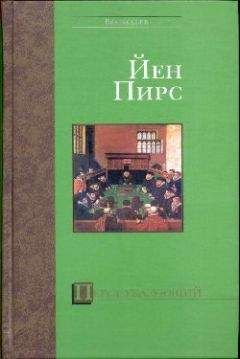– Да, я поистине счастливица. Простите меня, сударь. Я не думала вам грубить. Матушка рассказала мне, как умело и с каким тщанием вы занимались с ней, и мы обе глубоко вам благодарны. Мы к доброте не привыкли, и я искренне прошу прощения за мои дерзкие слова. Я очень боялась за нее.
– Не на чем, – ответил Кола, – только не жди чудес.
– Я буду молиться о чуде, хотя и не заслуживаю его. Вы придете еще?
– Завтра, если сумею. А если ей станет хуже, поищи меня у мистера Бойля. Ну а теперь о плате.
Я более или менее дословно воспроизвожу беседу, как она записана мистером Кола, и признаю, что его рассказ, насколько верна моя память, безупречен. Хочу добавить лишь одну малость, которая почему-то отсутствует в его изложении: когда он заговорил об уплате, он сделал шаг к ней и взял ее за локоть.
– Ах да, ваша плата. Как я могла подумать, что вы про нее забудете? Ею надо заняться немедленно, ведь так?
И лишь тогда она вырвалась и провела его в чулан, где я поспешно спрятался в тень в надежде остаться незамеченным.
– Давай же, лекарь, бери свою плату.
И как говорил Кола – вновь в полном соответствии с истиной, – она легла и задрала подол платья, заголив себя перед ним самым непристойным жестом. Но Кола не упоминает тона ее слов, того, как ее голос дрожал от гнева, не упоминает он и презрительной усмешки у нее на губах.
Кола помедлил, потом отступил на шаг и перекрестился.
– Ты мне отвратительна.
Все это есть в его рассказе, я лишь заимствую его слова. И вновь я вынужден предложить иное истолкование происшедшего: Кола пишет, будто был разгневан, но я этого не заметил. Я видел перед собой человека, объятого ужасом, словно он узрел самого дьявола. Глаза его расширились, и он едва не вскричат в отчаянии, когда отшатнулся от нее и отвел взор. Прошло немало дней, прежде чем я узнал причину столь диковинного поведения.
– Господь прости мне, Своему слуге, ибо я согрешил, – произнес он на латыни, которую я понимал, а Сара нет.
Это я хорошо помню. Он гневался на себя, а не на нее, ибо для него она была искушением плоти, которому следовало воспротивиться. Потом он бежал, спотыкаясь, через комнату и действительно не хлопнул за собой дверью, так как выскочил из дому слишком быстро, чтобы вообще закрыть ее.
Сара осталась лежать на соломенном тюфяке. Она перекатилась на живот и закрыла руками голову, лицом вжимаясь в солому. Я думал, она просто заснула, пока не услышат горькие рыдания. Сара захлебывалась слезами, которые рвали мою душу на части и во мгновение ока вновь разожгли былую мою привязанность к ней.
Я не мог ничего с собой поделать и даже ни на мгновение не задумался о том, что собираюсь сказать. Она никогда не плакала так, и слезы такого глубокого горя заполонили мою душу, смыв с нее всю горечь и злопамятство, оставив ее обновленной и чистой. Сделав шаг вперед, я опустился на колени подле девушки.
– Сара? – негромко окликнул я.
При звуке моего голоса она вскинулась от испуга, одергивая платье, дабы прикрыть наготу, и в ужасе отстраняясь от меня.
– Что вы тут делаете?
Я мог бы пуститься в долгие объяснения, мог бы сочинить сказку о том, как пришел только что, тревожась за ее мать, но выражение ее лица заставило меня позабыть о всяком притворстве.
– Я пришел, чтобы попросить у тебя прощения, – сказал я. – Я его не заслуживаю, но я был несправедлив к тебе. Я раскаиваюсь в своих словах.
Так просто было это произнести, и, говоря эти слова, я чувствовал, что все эти месяцы они только и ждали возможности сорваться у меня с языка. И сразу я почувствовал себя лучше, словно освободился от тяжкого гнета. Мне кажется, я искренне верил, что мне нет дела до того, простит она меня или нет, потому что знал, что она будет вправе не прощать меня, я желал только, чтобы она поверила в искренность моего раскаяния.
– Странное время и место для извинений.
– Знаю. Но потеря твоей дружбы и уважения – больше, чем я способен снести.
– Вы видели, что только что тут произошло?
Я помедлил, прежде чем признать правду, потом кивнул.
Она не ответила мне тотчас же, но начала вдруг содрогаться. Мне подумалось было, что это снова слезы, но потом, к удивлению своему, я разобрал, что это смех.
– Вы и впрямь странный человек, мистер Вуд. Никак я вас не пойму. То вы без всяких тому доказательств обвиняете меня в самом развратном поведении, то, увидев подобное, просите моего прощения. Как мне в вас разобраться?
– Я сам себя иногда не разберу.
– Моя мать умирает, – продолжала она, смех пропал, и настроение ее мгновенно переменилось.
– Да, – согласился я. – Боюсь, это так.
– Я должна принять это как Господню волю. Но никак не могу. Странно все это.
– Почему же? Никто не утверждал, будто послушание и смирение даются легко.
– Я так страшусь потерять ее. И мне стыдно, потому что я едва могу видеть ее такой, какая она лежит теперь.
– Как она сломала ногу? Лоуэр сказал мне, она упала, но как такое могло случиться?
– Ее толкнули. Она вернулась вечером, заперев прачечную, и застала здесь мужчину, который рылся в нашем сундуке. Вы достаточно хорошо ее знаете и поймете, что она не убежала из дому. Думаю, он ушел с синяком под глазом, но он опрокинул ее наземь и бил ногами. Одним из ударов он сломал ей ногу. Она стара и слаба, и кости у нее совсем уже хрупкие.
– Почему вы никому не сказали? Почему не подали жалобу.
– Она его узнала.
– Тем более.
– Наоборот. Он когда-то был на службе у Джона Турлоу, как и мой отец. Даже сейчас, что бы он ни сделал, его никогда не поймают и никогда не накажут.
– Но что…
– Как вам известно, у нас ничего нет. Во всяком случае, ничего, что могло бы его привлечь. Только бумаги моего отца, которые я отдала вам. Помните, я говорила, что эти бумаги опасны. Они все еще у вас?
Я заверил ее, что потребуется немало часов для того, чтобы отыскать их в моей комнате, даже если бы кто-нибудь прознал, у кого они.
Потом я рассказал ей о том, как и Кола дотошно обыскал их дом.
– За что караешь ты Своего слугу, Господи? – Сара печально качнула головой.
Я обнял ее, и мы прилегли вместе. Гладя ее по волосам, я старался ее утешить. Но сколь малое я мог ей дать утешение.
– Мне надо рассказать вам о Джеке Престкотте, – сказала она некоторое время спустя, но я успокоил ее:
– Я не хочу… мне не нужно ничего слышать.
Чем бы это ни было, лучше было об этом забыть. Я не желал слушать, а она была благодарна за то, что я избавил ее от унижения говорить.
– Ты вернешься работать у нас? – спросил я. – Это не самое выгодное предложение, но если в городе станет известно, что Вуды взяли тебя к себе, это вернет тебе доброе имя, не говоря уже о деньгах.
– Ваша матушка меня примет?
– О да. Она очень сердилась, когда ты ушла, и непрестанно ворчит и жалуется, мол, насколько лучше все делалось по дому, пока ты была у нас.
На это она улыбнулась, потому что я знал, что в присутствии Сары моя матушка ни разу не позволила себе промолвить ни словечка похвалы, чтобы девушка не возгордилась.
– Возможно, я так и сделаю. Хотя, если мне не надо больше платить врачам, то и нужда у меня в деньгах уменьшилась.
– Это, – сказал я, – слишком далеко заводит покорность Божьей воле. Если это в наших силах, твоей матери нужно обеспечить уход. Откуда тебе знать, не есть ли это испытание твоей любви к ней и что ей назначено поправиться? Иначе ее смерть ее будет тебе наказанием за нерадивость. Ее должен лечить врач.
– Я могу позволить себе только услуги цирюльника, но и он может отказаться. Она отказывалась от любого моего лечения, и я все равно не сумела бы ей помочь.
– Почему?
– Она стара. Думаю, ей время пришло умереть. Я ничего не могу поделать.
– Возможно, Лоуэр сумел бы.
– Он может попытаться, если согласится, и я буду счастлива, если он преуспеет.
– Я его попрошу. Если этот Кола скажет, что она больше не его пациентка, Лоуэр поддастся уговорам. Он не станет оскорблять собрата, делая это без его позволения, но мы, по-видимому, без труда его получим.
– Мне нечем заплатить.
– Я придумаю что-нибудь. Не тревожься.
С величайшей неохотой я встал. Будь моя воля, я остался бы там на всю ночь, чего никогда не делал раньше и что нашел до странности заманчивым: слышать биение ее сердца у моей груди и чувствовать ее дыхание у меня на щеке были сладчайшими из ощущений. Но это означало бы навязать ей себя и не прошло бы незамеченным наутро. Ей надо было восстанавливать свое доброе имя, а мне – сохранять свое. Оксфорд не походил тогда на королевский двор, не было в нем и нынешней распущенности. Все держали уши открытыми, и слишком многие были скоры на порицание. Я сам был таков.
Моя матушка привела лишь самые незначительные возражения, когда я объявил, что Сара раскаялась в своих грехах, добавив, что они на деле были меньше, чем раздули их досужие сплетники. Милосердие требует простить грешника, если раскаяние его искренно, как оно есть, завершил я, в данном случае.