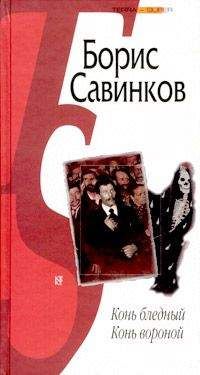Я над ними много и напряженно думаю, чтоб найти правильное решение. А для этого нужно внутреннее равновесие. И досадно, когда не умеющая думать и ничего не понимающая женщина срывает это равновесие. И из друга — становится врагом. Будь здоров, Андрей!
Он решительно вышел из кабинета. В нем закипало неудержимое раздражение против Елены... Глупая, оскорбительная выходка, Объявление войны без резонного повода.
То, что Манухин пытался оправдать ее приход в контрольную комиссию беспокойством о Кудрине, было неубедительно для Кудрина; тем более что оснований для беспокойства не было. Неужели она не могла просто, по-товарищески, спокойно, даже после нелепой вспышки перед отъездом в Москву, поговорить с ним, высказать свои сомнения и тревоги? Неужели он отказался бы так уже дружески объяснить ей все, что занимало его последнее время. Если бы даже его объяснения не рассеяли ее сомнений, она могла же поговорить с тем же Манухиным, который не раз бывал у Кудрина, в домашней обстановке, не придавая разговору официального характера. Но появление в контрольной комиссии совершенно меняло положение. Кудрин прекрасно понимал, что, приди не Елена, а любая другая женщина с такими обвинениями против него, могло бы возникнуть уже формальное дело, которое, конечно, кончилось бы ничем, но, во всяком случае, сулило бы много неприятных минут.
Выйдя из Смольного, Кудрин сумрачно стоял у машины, думая, ехать или не ехать сейчас домой? Он боялся встретиться сейчас с Еленой, чтобы в озлоблении не наговорить ей лишнего, оскорбительного. И он придумывал, как бы оттянуть возвращение в дом.
И совершенно нежданно он вспомнил записанный у кассирши на выставке адрес Шамурина. Если поехать сейчас к художнику, то мирный разговор о творчестве, о работах этого интересного и неведомого мастера, знакомство с его трудом может сыграть роль,громоотвода, поможет успокоиться и погасит негодование. И, решив ехать, он сказал водителю адрес.
Машина промчалась по Невскому, свернула на улицу Герцена, миновала сквер у Исаакиевского собора. Там на свежепосыпанных песком дорожках копошились ребятишки, Кудрин посмотрел на их веселую воробьиную возню, и у него болезненно сжалось сердце. Он подумал, что, возможно, все тревоги, вся неудовлетворенность последних лет и ощущение холодной пустоты в доме происходят оттого, что по комнатам не бегает вот такой неуклюжий шарик, которому можно было отдать неизрасходованный запас мужской отцовской не юности и тепла, который был не нужен в работе и который не ценила Елена. Кудрин вспомнил, что ему уже сорок два года и жизнь идет под уклон. Он мотнул головой и сказал сам себе:
— Так-то, Федя!.. Так-то! Идешь к концу, а сменой не обзавелся. Плохо без смены.
И не докончил мысли, с горечью подумав, что, пожалуй„смены уже и не будет и поздно об этом сожалеть.
Водитель, замедлив ход машины, переспросил:
— Какой переулок-то, Федор Артемьич? Я что-то такого не помню,
Кудрин назвал переулок, водитель свернул налево, и машина запрыгала по выбоинам торцов, разбрызгивая покрышками мутные лужи. Кудрин рассеянно откинулся на спинку сиденья, взглянул па канал и замер, ошеломленный.
Перед ним, за простым и страшным, как узор гробового рюша, контуром решетки канала, медленно текла масленая, синевато-радужная вода с тяжелым запахом гнили. По ней бежали смертные лиловые тени. На противоположной стороне вставала громада брандмауэра, и
по ней трупными пятнами проступала отсырелая штукатурка печных труб,
Не было сомнения, — перед ним был тот же пейзаж, что на гравюре Шамурина, только менее мрачный и безнадежный, смягченный блеском весеннего дня. Не было только девушки у решетки, но, казалось, она сейчас обязательно должна встать на свое место в этом прозрачном мире. Кудрин сидел молча, не отрывая глаз от этой картины, повторяющей гравюру Шамурина. Он даже не заметил, что машина уже остановилась у приземистых ворот. Только когда водитель вторично окликнул его, он с трудом очнулся.
— Приехали, Федор Артемьича Этот самый! Номер четырнадцать!
Внезапно и странно отяжелев, Кудрин медленно вылез пз машины и, обходя лужи, двинулся во двор. Женщина с изможденным, серым лицом переходила двор с корзиной мокрого белья на плече.
— Шамурин? — переспросила она. — Это который художник?.. Так вы, товарищ, прошли уже. Вернитесь под ворота, вон там налево парадная, подымитесь на четвертый этаж. Там, где на дверях карточка портнихи Воронковой, там он и живет, — словоохотливо, видимо радуясь появлению нового лица, объяснила женщина.
Кудрин вернулся и.поднялся по залитой и затоптанной грязной лестнице, на которой стоял густой запах прокисших огурцов и кошачьих отходов. На двери, с которой висели лоскуты клеенки, белела маленькая карточка: «Портниха Воронкова. Шитье по парижским моделям».
Кудрин усмехнулся. Не обнаружив электрического звонка, он дернул за старинную ручку, пропущенную сквозь медистые кольца. Внутри просыпался дребезжащий звон, зашаркали мягкие шажки, звякнула цепочка, дверь открылась, и Кудрин оказался лицом к лицу с малорослой, согбенной старушонкой. Она, не мигая, смотрела на него подслеповатыми глазками в красных слезящихся веках.
— Вы к Лизавете Семеновне? А их дома нет... Понесли заказ... Может, подождете? — прошипела она беззубым ртом.
— Я не к ней... Мне нужен художник Шамурин,— сказал Кудрин.
При этом старуха быстро оглянулась назад, в темень коридора, и Кудрину показалось, что в ее глазках пробежала тень испуга.
— К Шамурину?.. Простите старую грешницу, мне ваше обличье сперва будто знакомое показалось. Думала, к нам... А к Шамурину прямо по коридору и дверь налево.
Она отстранилась, пропуская Кудрина. Больно ударясь коленом о какой-то острый угол, он добрел до двери.
— Во... во! Она самая! — придушенным шепотом сказала старушка.
Кудрин негромко постучал и сейчас же услышал за дверью быстрые и легкие, совсем не старческие шаги. Невидимая рука отодвинула засов. Дверь распахнулась, облив стену коридора холодным серым светом. На пороге стоял небольшого роста, высохший человек с острой седой бородкой и блестящими из-под кустистых бровей тревожными глазами. Глаза эти сразу запомнились Кудрину.
Серо-синие, пристальные, они таили в себе спрятанную сумасшедшинку и глубокую боль.
— Что вам угодно? — спросил хозяин.
Кудрин на мгновение растерялся от его неподвижного и подозрительного взгляда.
— Вы Шамурин? — тихо спросил он. — Простите, но я просил бы уделить мне несколько минут.
— Входите! — ответил Шамурин и пропустил Кудрина в комнату, захлопнув дверь перед носом крайне заинтересованной старушки.
Да, я Шамурин, — обернулся он к Кудрину.— А чему я обязан вашим посещением и с кем имею честь разговаривать? — продолжал он, сложив на груди худые кисти рук с вздутыми синими венами.
В его голосе, тихом и чуть скрипучем, в немножко приподнятых оборотах речи, в том, как он сложил руки, в непринужденной легкости и изяществе этого жеста Кудрин инстинктом почувствовал человека из прошлого, выдержанного, воспитанного и умеющего вести разговор с любым посетителем, выжидательно рассматривая и оценивая его. Но в то же время он уловил в этом старике странное, непрекращающееся внутреннее беспокойство, лихорадку, словно его пожирал таимый от всех, но мучительный горячечный жар. Этот жар и чувствовался в сумасшедшинке таких спокойных и замкнуто-вежливых на первый взгляд темных глаз.
И, словно повинуясь приказу собеседника, Кудрин поклонился и сказал;
— Разрешите назвать себя... Я директор треста «Стеклофарфор» Кудрин.
Старик не выразил ни удивления, ни интереса.
— Возможно, вас удивляет мое посещение, — продолжал Кудрин, но старик остановил его.
— Прошу прощения. Будьте любезны присесть и великодушно извините, я только набью трубку. У меня привычка курить. Разрешите?
— О, пожалуйста, не стесняйтесь, — ответил в тон Кудрин, ведя игру на состязание в вежливости и предупредительности. И он сел на тяжелый дубовый стул, неподалеку от двери. Теми же бесшумными и по-молодому быстрыми шагами Шамурин вышел в соседнюю комнату.
Кудрин имел время оглядеться. Стены большой запущенной комнаты с выцветшими обоями, не сменявшимися, видимо, много лет, были сплошь увешаны работами хозяина. Большинство из них были акварели, написанные широко, легкими и прозрачными тонами. Над пианино, против Кудрина, висел прекрасный, в полный рост, портрет женщины в бальном платье, своей мягкостью и расплывом напоминавший ему портреты Карьера. Эта расплывчатость контуров еще усиливалась слабым освещением простенка, и на холсте отчетливо выделялись только белые, точеные руки.
Стена направо была заполнена рядом рисунков, угольных и акварельных набросков к уже знакомой гравюре.