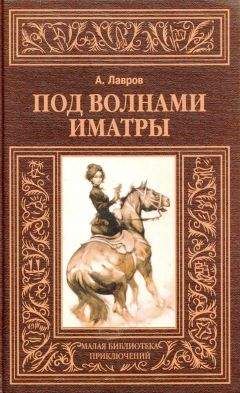При появлении Марьи Егоровны он низко склонился перед нею и назвал себя. Затем он осведомился, не говорит ли мисс Воробьева по-английски, но поспешил к этому прибавить, что сам в достаточной мере владеет русским языком и может свободно объясняться на нем.
– Тогда уже лучше по-русски, мистер Морлей, – отозвалась Воробьева, – я-то хотя и знаю ваш родной язык, но не настолько, чтобы думать на нем, а по всей вероятности разговор у нас будет деловой.
– О, уез! – отвечал англичанин, но сейчас же, спохватившись, прибавил по-русски: – О, да, да!
Он немного помолчал, провел языком по губам и произнес:
– Я прежде всего позволю себе выразить вам, мисс, глубокое соболезнование по случаю вашей утраты.
Марья Егоровна ответила ему поклоном.
– Утрата очень тяжелая, но – увы! Жизнь и смерть не в руках человека. Особенно понимаемо мне ваше, мисс, горе потому такое, что умерший Джордж Воробьев, ваш отец, был древним моим клиентом и даже искренним другом.
– Вы знали папу? – воскликнула Марья Егоровна.
– О, да! Очень и очень хорошо знал я его!
С этими словами Морлей поднялся с кресла и выпрямился во весь рост; потом его тощая фигура согнулась в почтительном поклоне перед Марьей Егоровной, и он произнес:
– Я был давним и постоянным банкиром покойного мистера Джорджа!
– Вы? Вот как! Я никогда не слыхала от отца.
– У меня нет чести знать, почему покойный мистер Джордж умалчивал об этом. Для себя я объясняю лишь тем, что ваш отец не имел желания так скоро умирать, и когда смерть постигла его стремглав, он позабыл говорить обо мне.
– Да, вы правы… Ах, если бы вы знали, какой ужас пережила я!… Отец, мой единственный друг…
– У вас, – вдруг перебил ее англичанин, – теперь будет еще единственный друг, это, – он ткнул себя пальцем в грудь, – Джон Морлей, эсквайр, Лондон, Риджент-стрит…
Молодая девушка чуть было не улыбнулась этому упоминанию адреса, но сдержалась.
– Благодарю вас, – сказала она, – я надеюсь воспользоваться вашей так мило предложенной дружбой.
– Я буду, как древний друг вашего отца, к вам, как верный пес. Но теперь прошу выслушать, что мне придется вам говорить.
– Пожалуйста, я слушаю! – отозвалась Марья Егоровна.
Морлей сперва откашлялся, потом привел верхнюю часть своего туловища в положение, параллельное спинке и перпендикулярное сиденью кресла, откашлялся еще раз и лишь тогда начал говорить.
– Ваш так несчастливо умиравший отец, мисс Воробьева, – начал он, – был очень миллионер, я говорю „был“ потому только, что „был“ значит не „есть“.
– Я понимаю вас, – перебила его Марья Егоровна.
– Я рад тому, это меня будет в дальнейшем несколько облегчить. Итак, ясно, что „был“ значит не „есть“ теперь. Ваш почивавший в земле родитель различною торгового коммерциею успел приобретать себе многие лета прежде некоторое количество денег, продолжавшееся до…
Морлей поднял руку, вдвинул ее за борт сюртука, вытащил бумагу, развернул и торжественно сказал, сперва заглянув в нее:
– До двух миллионов трехстах семидесяти тысяч шестисот тридцати двух рублей на ваши деньги и двенадцати копеек еще, но это было давно, очень давно…
– Однако, – сказала Марья Егоровна, – я думала, что состояние отца было больше.
– Оно могло быть больше, – перебил ее Морлей, – но оно не могло быть больше потому, что покойный мой древний друг Джордж стал водить многие дела риска и сердца, а где находится сердце, там капитал не произрастает…
– Позвольте, – опять перебила его Марья Егоровна, – я начинаю что-то понимать… Состояние моего отца уменьшилось? Так? Но при чем сердце?
– Я позволяю себе, мисс Воробьева, рассказывать вам еще одну интересантную повесть, и вы из нее будете постигнуть всю суть в сердце вашего почивавшего в земле отца.
Марья Егоровна даже и ответить не успела, как Морлей перешел уже к своему рассказу. Молодая девушка слушала англичанина, как бы в забытьи, но чем далее шел его рассказ, тем все более и более, особенно в самом конце его, разрасталось в ней чувство восторга, удовольствия, радости, счастья…
А между тем то, что говорил на исковерканном русском языке мистер Морлей, вовсе не имело целью, чтобы сделать кого-либо счастливым. Напротив того, многих подобный рассказ сделал бы несчастными, повергнул бы в ужас, заставил бы клясть жизнь.
Морлей, предупредив Воробьеву, что он должен, даже вопреки своему желанию, рассказать всю правду, передал следующее.
За много лет до этого разговора Егор Павлович, тогда еще только начинавший жизнь молодой человек, совершил нехорошее, злое дело, которое, в сущности, говоря, явилось основанием всего его будущего богатства. Он тогда служил в банковском учреждении и сделал там крупное хищение. Случилось, однако, так, что первое подозрение пало не на Воробьева, а на другого служащего. Первое подозрение в таких случаях – чаще всего и последнее. Будь заподозренный белее первого снега, он только в исключительно редких случаях успевает доказать свою невиновность. Будто сами собою являются против несчастного неоспоримые улики. Истинно виновный остается в стороне, а все обвинение, вся тяжесть приговора ложится на такого несчастного. Так было и в этом случае. Воробьев остался вне всякого подозрения, а его товарищ, совсем ни душой, ни телом не причастный к преступлению, был судим, приговорен и сослан.
Марья Егоровна слушала, и сердце ее учащенно билось.
– Как звали этого несчастного? – спросила она.
– Сейчас я буду говорить вам, мисс, – схватился за бумаги Морлей и через минуту объявил: – Николай Масленников!
– Слава богу! – невольно вырвалось у Воробьевой восклицание. – Не тот, не тот!
С души у нее отлегло, когда Морлей ответил. Она была уверена, что услышит фамилию Кудринского…
Англичанин посмотрел на нее пристально-долгим взором, и в глазах его отразилось выражение скрытого торжества.
– Я теперь буду разговаривать дальше, – снова начал он. – Для меня нет никакой неизвестности, каковой судьбою пользовались эти люди в вашей этой Сибири…
– Эти люди! – воскликнула Воробьева и почувствовала, что вся так и холодеет.
– Ну, да, мисс, эти люди, – с подчеркиванием произнес Морлей. – Мне нет известности о причинах вашего удивления тому, что я говорил „эти люди“, потому что за товарищем вашего почивавшего отца пошла его вернейшая добродетельная жена и в то же время понесла на своих руках малолеточного сына…
– Дальше, дальше!… – едва имела в себе силы выкрикнуть Марья Егоровна.
Морлей, делая вид, что не видит волнения молодой девушки, невозмутимым тоном продолжал свой рассказ.
Теперь он рассказывал, что Воробьев сумел в несколько раз увеличить похищенную сумму и стал, если не богачом, то состоятельным человеком. В нем пробудился дух наживы, явилась размашистость, непреодолимое стремление к крупным оборотам. Откуда-то Воробьев узнал непреложную истину, что всякое дело – золотое дно для того, кто первый начинает его. Эта истина подтолкнула его вперед. Он решился рискнуть своим состоянием и отправился на Амур, который был в то время сказочною страною для всех искателей счастья и приключений. Повезло там и энергичному Воробьеву. Он быстро стал миллионером и тогда-то, вероятно, под влиянием угрызений совести, он решил поправить сделанное им зло, но – увы! – раскаяние пришло слишком поздно. Несчастную обездоленную семью или, вернее, следы ее Воробьеву удалось найти без особенного труда, но только следы… Горемычные супруги не видели своего несчастия, ибо они были уже в ином мире, из которого нет ни для кого возврата.
– А их дитя? – вся, замирая от волнения, трепещущим голосом спросила Марья Егоровна.
– Я буду о нем иметь сейчас к вам свою речь, – ответил Морлей. – Этот столь молодой ребенок стал виноватым лишь в собственном вашем несчастии.
– Как так? – воскликнула Воробьева.
Но англичанин, не обратив внимания на ее вопрос, с виду бесстрастно, продолжал свой рассказ, хотя глаза его как-то странно блестели, и сам он то и дело вздрагивал.
Прежде всего, он сообщил Воробьевой, что он был товарищем ее отца, когда тот наживал свои миллионы. Общих дел они не вели, но часто встречались, особенно с тех пор, как Морлей поселился в Шанхае. Воробьев часто наезжал туда. У него вдруг оказались какие-то особенные дела на острове Формозе и в самом Китае, особенно в тех портовых городах, которые были открыты для европейцев. Там в одно из свиданий, – так говорил Морлей, – мистер Джордж поведал „древнему другу“ историю своего преступления, сделавшего его глубоко несчастным, признался, как тяжко мучит его совесть и как страстно жаждет он загладить, хотя бы отчасти, то зло, которое он принес своим жертвам.
– К сожалению моему теперь, я тогда весьма одобрял его эти намерения, – произнес Морлей.
– Как же мой отец исполнил их? – спросила дрожащим голосом молодая девушка.