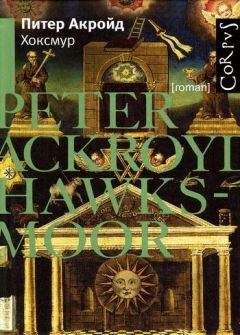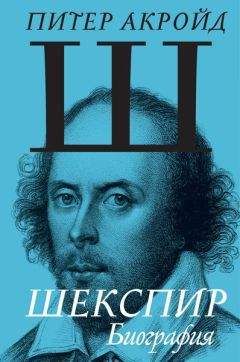Так говорил я с Натом в первый день своей болезни, теперь же, думая о тех рабочих, что упоминал, вижу их, проходящих мимо меня по дороге, каковую являет собою моя память: Ричард Вайнинг, Джонатан Пенни, Джеффри Строд, Вальтер Мейрик, Джон Дюк, Томас Стайль, Джо Крагг. Слова эти вылетают из моих уст в воздух, и слезы текут по лицу моему, по какой причине, мне неведомо. И вот уж мысли мои встали как вкопанный, и я, подобно паломнику, что выходит на солнечное пекло, блуждаю по пустыне времени.
*
Этим честным делом я и занимался вовсю, как тут входит Нат, успевши доставить мое письмо, и опять за свое: не угодно ли чашку чаю выкушать, да хлеба с маслом, или же выпить стакан элю? В такое смятенье он меня вогнал, что впору было пнуть его в зад, чтобы убирался восвояси, но все-таки воспоминания кусочками складываются вокруг меня, и вот я уж опять наедине с своими мыслями.
Итак, отвлекшись, возвращусь теперь к повествованию об истинной моей истории: по замыслу мне следовало сообщить читателю несколькими страницами ранее о своей жизни в бытность улишным мальчишкою после странной нашей беседы с Мирабилисом, так что отступлю немного назад, к тому, на чем закончил. Я спасу тебя от погибели, крошка Фаустус, сказал он мне; что же до причин, побудивших меня не покидать его общества на Блек-степ-лене, то их я вам уже поведал — ибо, будучи мальчишкой без гроша и одиноким, каким был я тогда, не знать мне было покою, покуда не отворю его двери, иначе ключ от нее в кармане мне, так сказать, дыру в штанах прожег бы. Ибо хоть мое бродяжье настроение еще не угасло, все-таки занятия с Мирабилисом, к коим я столь тянулся, доставляли мне удовольствие. Он не уговаривал меня остаться, даже и не намекал на такое, а стоило с наступлением сумерек прибыть собранию, как я торопился на улицы и принимался играть с опасностию. Была там ватага малолетных бродяг, что собирались при свете Луны в Мор-фильдсе, и я несколько времени блуждал вместе с ними; почти все они остались сиротами в Чуму. Стремясь не попадаться на глаза караульщику или стражнику, они взывали к прохожим, крича: благослови Вас Господь, подайте пенни, или: подарите полпенни, Ваша милость; и по сей день в голове моей слышатся их голоса, когда хожу по городу в толпе, а порою, вообразив, будто я и теперь из их числа, меня охватывает дрожь.
Ибо тогда я с виду был в роде мальчишки из стеклодувной мастерской, вечно возился в улишной грязи: спал, покуда зима не пришла, в пристройках и в дверях лавок, где меня знали (в доме Мирабилиса, где меня пугал шум, спать я не мог), зимою же, когда Чума отступила и улицы снова были освещены, забирался я в зольники и являл собою сущую фигуру побирушки, презренного и жалкого в крайней степени. Пускай те, которые лежат в своих уютных спальнях, зовут ночные страхи обычными бреднями — разум их не постиг того ужаса, что известен протчим, кочующим по миру. Стало быть, те, чьи взоры падали на меня в проклятые былые дни, качали головами и восклицали: бедняжка! или жалость-то какая! но помощи мне не предлагали и с собою не удерживали; в то время я помалкивал, но собирал все подобные случаи у себя в сердце, так что сделался знатоком людей не меньшим, нежели книг. Воистину, говаривал Мирабилис, созерцаючи мое тряпье, корабль твой разбился об остров людской, однакожь не отчаивайся, но читай эти книги, изучай их усердно и набирайся разуму у меня, и тогда эти господа Христиане, что отворачивают от тебя лица, станут прахом под ногами твоими; когда же их поглотит пламя, Владыка Мира тебя не обидит. В том находил я утешение, хоть и казалось в те дни, что уготовано мне заточенье в тюрьме.
Таким образом прожил я от месяца Августа до Декабря, когда Чума почти прекратилась и тетка моя, сестра моей матери, возвратилась из городка Ватфорда, куда уезжала, дабы избежать нещастья. Она принялась осведомляться обо мне в Спиттль-фильдской округе, и, как в ту пору я имел обыкновенье разгуливать по улицам, где играл в малолетстве, вмале ей сделалось известно о моем бедственном положении, после чего взяли меня в ея дом в Колмен-стрите. Мне шел тогда четырнадцатый год, и она знать не знала, что ей со мною делать, ибо, хоть лицом она и была приятна, но представляла собою истинный клубок противуречий: бывало, не успеет направиться по одному пути, как тут же поворотится и пускается по другому. Ник, говорит она мне, бывало, подай-ка мне ту книжку, а впротчем, не трожь ее; однакожь позволь мне на нее взглянуть, хоть важность в ней и небольшая. Голова ея была — что твоя беличья клетка, а ум — что белка, там крутившаяся. Поперву она рассуждала так, что мне должно сделаться подмастерьем, да только вся извелась, размышляючи, к кому меня отдать: к книгопродавцу, к игрушешнику или к каретных дел мастеру. Я сему не перечил, узнавши от Мирабилиса, что судьба моя уже определена, но от молчания моего это круженье лишь продолжалось: впротчем, говорит, может, мы в деревню воротимся, хоть это, пожалуй, опрометчиво, коли там нету приличного общества, однакожь сама-то я покой люблю.
Как бы то ни было, рассуждения ея скоро прекратились, ибо не успел я провести с теткою два месяца, как Лондон попал в пещь и был сожжен в огне. Читателя утомит, вздумай я распространяться о Скорбном Судилище или Ужасном Гласе Божием (как его имеют обыкновение называть), но в памяти у меня отложилось то, как Солнце, проникаючи сквозь дым, гляделось красным, что кровь, а люди кричали в голос, так, что вопль их досягал до самого неба, да копались в навозе своего прогнившего сердца, да выставляли напоказ нечистое свое нутро. Когда стоял шум и домы валились на улицы со страшным ревом, то они подымали крик: конец нам настал! пропали мы, грешные! и все такое протчее; стоило же опасности миновать, как они в миг опять за свое:
Нам бояться ли чертей?
Эй, народ, гуляй да пей!
Так больные смиряются пред недугом своим, лишь когда пора наступает от него помирать, хоть и носят свою смерть повсюду с собою. Видел я одну благородную даму, что, сгоревши, сделалась ни дать ни взять воплощеньем смертной Природы человеческой: лицо ея, ноги и ступни совершенно обратились в пепел, туловище сильно обгорело, но сердце ея, нечистое сердце так и болталось посередине, будто уголек.
Тетка моя в своих колебаниях дошла до последней крайности. Сгорим мы, говорит, как пить дать сгорим, а решиться съехать самой и добро свое свезти в открытыя поля все никак не может. То выбежит на улицу, то обратно прибежит: ветер горячий, кричит, не сюда ли он дует, Ник? По моему рассчету, так сюда, продолжает она, моего ответа не дожидаючись, да, может, вскоре утихнет? Шум ужасный, а все-таки кажется мне, или же он впрямь ослабевает? Белье надо бы вывесить, говорю я ей, ветер его и высушит. Ибо я пламени не страшился — не за мною оно пришло, как пророчествовал Мирабилис; так и вышло — огонь остановился на нижнем конце Колмен-стрита. Увидавши сие, тетка моя возрадовалась безмерно и похвалила себя за свою решимость.
От Сити осталось мало что, не считая части улиц Бред-стрита и Бишоп-гата, всего Леденгалл-стрита, да кой-чего от прилежащих проулков близь Алгата и Кретчет-фрайерса. Старые деревянные домы пропали, теперь можно было новыя основы закладывать — по этой-то причине и встал я вмале на собственные ноги. Ибо зародилось во мне сильное желание сделаться каменщиком, пришло же мне в голову оно вот каким образом: после Пожара вернулся я в дом Мирабилиса на Блек-степ-лене (который пламя пощадило) и, повстречавши там своего доброго хозяина, спросил его совету, что мне делать теперь, когда город снесен. Ты, отвечал он, будешь строить и превратишь сей картошный домик (под коим разумел место встреч) в Монумент; пускай камень сделается Богом твоим, Бога найдешь ты в камне. За сим он взял свой темный плащ и в вечерних потемках отправился восвояси, после чего я его никогда более не видел.
Однако пора уж покончить с этою частию моего рассказа: тетка моя возражений не имела, после Пожара в деле сильно не доставало новых рук, и меня отдали в подмастерья некоему Ричарду Криду. Про него сказывали, будто он мастер, способный меня обучить; он и вправду оказался человеком трезвым и честным. Тетка моя нипочем не могла внести за меня денег в залог, и посему решено было, что меня возьмут в подмастерья без всякой платы на том условии, чтобы мне несколько времени служить в его доме в Аве-Мария-лене, подле Лудгат-стрита, недалеко от церкви Св. Павла; мастер обещал научить меня искусству и тайнам ремесла, каковое обещание было сдержано. И вот, проживши на свете четырнадцать лет, встал я на путь, каким иду и поныне, однакожь сила воспоминаний такова, что я и по сей день тревожусь, сны мои наполнены беспокойством, часто представляется мне, будто я все еще привязан к помянутому хозяину своему и что срок мой никогда не окончится. Что до срока, то так оно и есть, хоть и в совсем ином разуменьи.