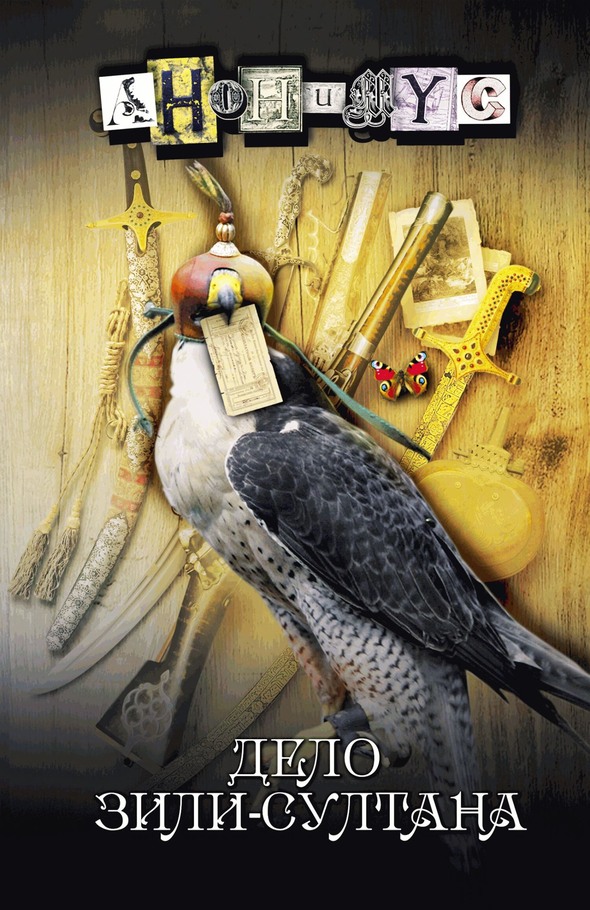Но если мой оптимизм объяснялся неопытностью, чем объяснялся оптимизм погонщиков, понять совершенно невозможно.
Первым через мост двинулся наш семейный экипаж, который вел один из черводаров. Когда мулы ступили на мост, у меня вдруг возникло дурное предчувствие. Внимательный читатель, уже, наверное, заметил, что дурные предчувствия возникают у меня с завидной регулярностью. Впрочем, тут я не вижу ничего страшного — гораздо хуже, что предчувствия эти почти никогда меня не обманывают. Так случилось и в этот раз.
Один из двух мулов, тащивших тахтараван, вдруг поскользнулся и повалился грудью прямо на мост. Второй, не желая упасть в реку, уперся в мост всеми четырьмя ногами. Но на него теперь легла большая часть экипажа, а сам тахтараван ужасающим образом накренился и опасно завис над бездной. Женщина и ребенок в экипаже ужасно закричали. Услышав вопли, первый мул в панике забился, пытаясь встать на ноги, но от этого тахтараван покосился еще больше. Еще пара толчков — и весь экипаж вместе с мулами повалился бы прямо на камни. К счастью, черводар, сопровождавший экипаж, наконец опомнился и бросился на первого мула, прижимая его к бревнам и не давая раскачивать тахтараван.
Было, однако, ясно, что силы неравны и долго он так не протянет. Ясно было и другое — второй мул в одиночестве не удержит падающий тахтараван. Пробраться к женщине и ребенку тоже было нельзя: дорогу перегораживал покосившийся экипаж и стоящий мул, изо всех сил пытавшийся этот экипаж на мосту удержать. Пока я думал, Ганцзалин с ловкостью циркового артиста пробежал по крайнему справа бревну и оказался возле дверки тахтаравана. Я последовал за ним, думая только о том, чтобы не поскользнуться на мокрых бревнах. Лежащий мул снова начал биться, но мы с Ганцзалином уже вытащили жену полковника и его малолетнюю дочь и быстро вели их на другую сторону моста. Едва мы успели ступить на твердую землю, как упавший мул вырвался из рук черводара и, дергаясь, начал подниматься на ноги. К счастью, пока он лежал, черводар успел выпрячь его из тахтаравана. Но экипаж, оставшись без поддержки, покосился еще больше, и медленно, как в страшном сне, стал обрушиваться в бездну, увлекая за собой оставшегося мула…
Нужно ли говорить, что тахтараван разбился при падении вдребезги, а несчастный мул погиб? Караван-баши долго причитал над убытками и даже предъявил претензии полковнику: дескать, мул поскользнулся из-за того, что жена его слишком дородная и перегрузила экипаж. Полковник, однако, отмахнулся от караванщика, как от мухи, и кинулся к Ганцзалину, который спас его семейство. Тот вместе с черводарами осматривал оставшегося мула, пытаясь понять, насколько тот пострадал. Полковник отвлек моего слугу от этого почтенного занятия и стал обнимать и прижимать к сердцу.
— К чему мне его объятия, я не девушка, — сердился потом Ганцзалин, — лучше бы денег дал.
Но с деньгами полковник расставаться не спешил: видимо, семейство не настолько было ему дорого, чтобы платить за его спасение. Видя это, Ганцзалин только тихо негодовал на скупость местных жителей, бормоча что-то вроде «жадные собаки хуже макаки».
Я утешал его, говоря, что эта пропасть наверняка не последняя и он еще сможет спихнуть скупого полковника в реку где-нибудь подальше.
— Смейтесь, смейтесь, только вот что я вам скажу, господин, — у мула была подпилена подкова, — обиженно заявил мой помощник. — Кто-то хотел, чтоб тахтараван упал в пропасть.
— Думаешь, кто-то покушался на жизнь полковничьей жены? — удивился я.
— При чем тут жена, жена села туда в последний момент. В тахтараване должны были ехать вы. Это вас собирались убить.
Шутить мне сразу расхотелось. Обсудив ситуацию с Ганцзалином, мы решили, что впредь следует удвоить бдительность. Очень может быть, что невидимый враг предпримет новую попытку. Если, конечно, мы правы и охотятся действительно за мной.
* * *
В следующие дни ничего интересного в дороге не происходило, если не считать совершенно свинских условий на местных постоялых дворах. Впрочем, на мой взгляд, и в этом тоже не было ничего интересного.
По-персидски название станций, где путники меняют лошадей, похоже на «мамзель». На одной из таких мамзелей с нами вышел неприятный случай. Заселившись, мы оставили вещи в номере и пошли немного размять ноги. Гуляли мы недолго, но, возвратившись назад, обнаружили, что вещи наши почему-то выставлены во двор.
Найдя смотрителя станции, оборванного нищего перса, мы спросили его, что все это значит. Он отвечал, что, когда мы ушли, явился слуга местного губернатора и сказал, что скоро приедет его господин, которому нужна самая лучшая и большая комната. Подумав немного, смотритель решил, что лучше нашего номера ему не найти.
— Но что же делать нам? — спросил я. — В таком случае, дайте хотя бы другую комнату.
Однако других свободных комнат не имелось. У нас не было даже формального повода возмутиться, поскольку за комнаты на станциях не платят, разве что вы воспользуетесь здешними лошадьми. Так или иначе, ночевать на улице мне совсем не улыбалось. Я стал подумывать, не прийти ли в ярость, но меня упредил Ганцзалин.
— Не беспокойтесь, хозяин — сказал он, — добрые люди всегда найдут общий язык.
С этими словами он уединился со смотрителем для беседы. Не знаю, о чем они там толковали, но спустя пять минут наши вещи уже внесли обратно, а смотритель забился в какую-то тараканью щель и до самого нашего отъезда не показывал оттуда носа.
Как уже говорилось, за комнату в «мамзелях» ничего не платят. Правда, по неписаным законам, на станциях принято давать смотрителю анам, то есть своего рода подарок. Ганцзалин, однако, объявил, что никакого анама смотрителю не полагается, хватит с него подарка в виде синяков по всей физиономии. Но я все-таки пожалел бедолагу и оставил ему в утешение пару кранов — чуть больше шестидесяти копеек на русские деньги.
Когда мы вместе с караваном выезжали со станции, несчастный смотритель выбежал и кланялся нам вслед — такое впечатление произвела на него моя неожиданная щедрость. Но, между нами говоря, щедрость эта была лишней, поскольку обслуживание на станциях поставлено из рук вон плохо.
Если вы путешествуете сами, на этих станциях вам должны сменять уставших лошадей на свежих. Однако сделать это почти невозможно. Обычно тут вам дадут таких кляч, на которых смотреть страшно, не то, что ехать на них. Может статься, что до следующей остановки вы будете тащить их на себе.
Справедливости ради скажем, что не везде царит такое безобразие. Ближе к столице, где-то после города Казвина, образ станций становится более человечным, а сами они делаются гораздо