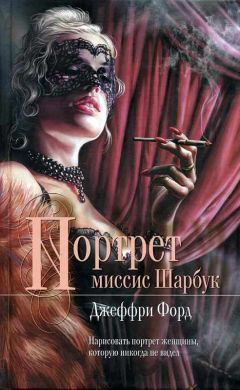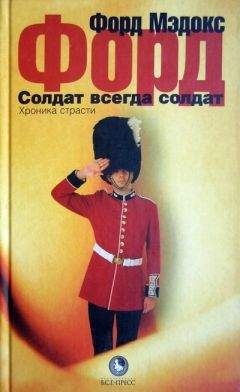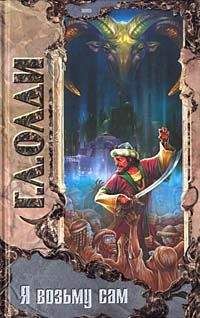Добравшись до универмага У. и Дж. Слоуна, я нырнул под каменный козырек над дверью, чтобы хоть немного перевести дух. Ветер веял ледяным холодом, и я недоумевал — почему идет дождь, а не снег. На мне были перчатки без подкладки, и пальцы мои окоченели. Я снял шляпу и наклонил ее, чтобы вода стекла с полей. Потом замер, некоторое время взирая на пустынную в это воскресное утро улицу и пытаясь вспомнить, что сказала Эмма, подружка Саманты: пошла ли она на юг или на север от магазина тканей. Я уже миновал немало проулков, упирающихся в Бродвей, но намеревался пройти в направлении к центру еще несколько кварталов, а потом уже на обратном пути исследовать все подряд.
Только тут мне пришло в голову, что неплохо было просмотреть газеты — нет ли там сообщений о женщинах, пропавших в последние дни. Возможно, плачущая кровавыми слезами женщина, которую видела Эмма, была одной из тех несчастных жертв, что уже обнаружили Силлс и его люди. Поскольку Эмма не назвала точную дату этого происшествия, а только сказала «на днях», я не мог сказать, как давно она столкнулась с плачущей женщиной.
Следующим зданием по направлению к центру, считая от магазина, была церковь. Несмотря на открытую дверь, внутри она казалась такой же пустой, как и магазины. Я прошел мимо жилых домов и лавок, но эти дома стояли вплотную друг к другу, не оставляя между собой никаких проулков. То же самое относилось и к домам, располагавшимся в южном направлении, а потому я повернулся и пошел назад.
Пока я шел по Бродвею, я был неустрашимым исследователем, но стоило мне свернуть в первый проулок и заглянуть в его мрачную темень, как мой кураж пропал. Мне вдруг пришло в голову, что меньше всего я бы хотел увидеть труп, из глаз которого сочится кровь. Я уже говорил, что глаза занимали священное положение в моей личной психологии. Они — основа моей профессии и моего искусства манипуляции светом на холсте, а потому сказать, что зрение играет для меня важную роль, значит не сказать ничего. Одна только мысль о каком-нибудь ячмене выводит меня из равновесия, и теперь, когда я заглядывал в промозглую темень, желая найти то, что искал, руки мои дрожали, а пот на лице смешивался с каплями дождя.
Этот проулочек возвратил меня в старый Нью-Йорк, в котором люди выбрасывали мусор за дверь, чтобы его сожрали свиньи. Углубившись на несколько шагов в кирпичную расщелину, я двинулся по всяким отбросам и выкинутым газетам. Там были разбитые бочки, несколько пустых ящиков, но я все же дошел до конца, уперся в высокий деревянный забор и с облегчением вздохнул, не увидев никаких трупов. Подавляя брезгливость, я прошел еще по двум таким проулкам и в последнем из них увидел только старую голодную дворнягу, прячущуюся в перевернутой бочке. Животное даже не шелохнулось, когда я прошел мимо, ступая по горам мусора.
Выйдя опять на тротуар последнего из трех проулков, я испытал безграничное облегчение, но еще и подавляющее чувство правоты из-за того, что, наплевав на погоду, произвел свои разыскания. Я повернулся в направлении Двадцать первой улицы и своего дома, скользнул взглядом по другой стороне, где заметил вход в еще один проулок. «Может быть, Эмма пересекла Бродвей, возвращаясь домой?» — подумал я. Я потряс головой и сделал несколько шагов, но потом повернулся и снова посмотрел на вход в проулок. Я громко выругался и снова ступил в грязищу проезжей части Бродвея.
Стена, определяющая одну из сторон этого проулка, принадлежала табачной лавке, а потому здесь я увидел высокий штабель из множества поставленных один на другой пустых контейнеров, издававших насыщенный табачный запах, и уйму гниющих табачных листьев, валявшихся на земле как в связках, так и по одному. От этого аромата мне захотелось сигареты, и на полпути я остановился и закурил. Я уже приближался к концу и собирался повернуть, но тут увидел сапожок — женский высокий сапожок со шнуровкой. Потом заметил некое движение, словно земля колебалась. И наконец, услышал попискивание — оно, перекрывая шум ветра и дождя, разносилось по проулку. Я присмотрелся внимательнее и увидел не меньше сотни крыс: они осклизлым живым одеялом укрывали что-то. Сигарета выпала из моего рта, я застонал. При этом резком звуке мерзкие твари бросились врассыпную, и я увидел женщину. Кровь свернулась, и на лице вместо глаз были видны огромные засохшие струпья. Трудно было представить, что это платье когда-то было белым — так оно напиталось алым цветом крови. Сделай я еще шаг, и меня бы вырвало. Я повернулся, но меня словно парализовало, и каждое движение давалось с огромным трудом.
Когда я вышел из проулка на Бродвей, на меня почти наткнулся какой-то человек. Мои движения были медленными, и прохожий успел остановиться в последний момент.
— Прошу прощения, — сказал джентльмен и обошел меня.
Я ничего не ответил, но его облик мне запомнился. Уже потом, когда я в прострации дошел до Греншоуса и позвонил оттуда в полицию, я понял, что человек с которым я чуть не столкнулся, был не кто иной, как Альберт Пинкем Райдер. Я начал испытывать то же чувство, о котором говорила миссис Шарбук, рассказывая, как впервые поверила, что Двойняшки разговаривают с ней — словно она избрана Господом.
Когда я добрался до дома, Саманта еще спала. Будить ее я не стал, сменил промокшую одежду и отправился прямо в мастерскую. Взяв кисть и палитру, я принялся заполнять холст, приготовленный предыдущим утром. Я работал со страстью и даже не отдавал себе полного отчета в том, что пишу женщину. Я позволял краске и ощущению, возникающему, когда я клал ее на холст, диктовать мне свойства фигуры, я воспринимал подсказки от цветов, которые выбирал по наитию, не размышляя, — картина сама управляла моей рукой, творившей ее.
Было уже далеко за полдень, когда я почувствовал, как руки Саманты обвивают меня сзади. Только тогда я полностью осознал, что же вышло из-под моей кисти, — портрет женщины, явно мне неизвестной, с длинными светлыми волосами, в платье из фталоцианина в желто-кадмиевую клетку. Улыбка у нее была шаловливая и таинственная, как у Леонардовой Джоконды, вот только глаза фонтанировали красным — красное было повсюду, миллионы капелек, числом превосходящие капли дождя на улице.
— Расскажи мне, Пьямбо, — сказала Саманта. — Поговори со мной.
Мои собственные глаза наполнились слезами, когда я поведал ей о том, что произошло по дороге от Шенца, о моем обещании Джону Силлсу, о моей сегодняшней находке. Рассказывая обо всем этом, я взял мастихин и очистил холст.
— Однажды вечером, ближе к концу зимы я была с отцом в промерзшей лаборатории, и он спросил меня: как я поняла, где нужно искать тело? Он был честным человеком во всем, кроме самообмана, связанного с его занятиями, и потому я не могла ему солгать. Ему достаточно было только прищурить правый глаз и улыбнуться левой стороной рта — и я сказала всю правду. Я призналась, что одинаковые снежинки наделили меня какими-то необычными способностями — умением узнавать то, что я вроде бы не могла узнать. Столько времени прошло, что мне уже не припомнить точно, в каких словах я описала ему все это, но я была умненькой девочкой и сумела донести до него то, что хотела. Я знала, что он не высмеет меня, как сделал бы любой здравомыслящий родитель, но побаивалась, как бы он не рассердился из-за того, что я привлекаю внимание к Двойняшкам. Но он лишь мрачно кивнул и слегка коснулся моего лба.
Он назвал это вторым зрением и сказал, что я должна вечно хранить существование снежинок в тайне, однако мне следует развивать эту способность, чтобы помогать себе и другим. Потом он мне сказал: «Оссиак не сможет долго финансировать мою работу, и ты должна готовиться к тому, чтобы самой пробивать себе дорогу в жизни». Я кивнула, хотя и понятия не имела, что у него на уме.
Он попросил меня принести лампы, стоявшие вдоль стен лаборатории. «Возьми их, Лу, и поставь на предметный столик», — сказал он. Я бросилась выполнять его задание, а он поднялся по лестнице на свое место в увеличителе. Я вернулась с двумя лампами и поставила их по обеим сторонам. «А теперь ляг лицом вверх, чтобы я мог навести линзы тебе на глаза, — сказал он. — Я хочу заглянуть в них».
Я сделала то, что он просил. Столик был ледяным. Когда моя голова оказалась под огромной линзой, он сказал: «Как только я опущу тубус, постарайся как можно дольше задержать дыхание, иначе линза запотеет». Я слышала, как механизм стал опускать оптический цилиндр, и мне на мгновение стало страшно: как бы отец ненароком не расплющил мое лицо, забыв, что сегодня образцом служит моя голова, а не плоская доска, полная снежинок. Он остановил линзу в каком-нибудь дюйме от моего лица, — по крайней мере, так мне это помнится. «Не дыши!» — крикнул он, и я набрала полные легкие воздуха. «Открой глаза широко, как только можешь!» — сказал он. Я так и сделала.