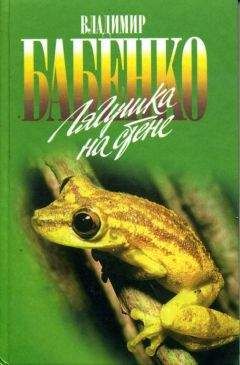«До своих… – думал я, осторожно пробираясь сквозь заросли и перешагивая через поваленные, истлевшие стволы деревьев. – Где они – свои?..»
Немцы вклинились в оборону Шестой и Двенадцатой армий и окружили с севера и юга. Если танковые части вермахта обнимут это кольцо с двух сторон, то нам к своим уже не пробиться… Пока еще есть шанс выскочить из кольца на восток, нужно торопиться…
Обойдя колок леса по периметру, я не услышал ни одного хруста, и ни одна ветка не качнулась не в ритм остальным. Пригнувшись и просчитывая, сколько патронов осталось в обойме, я обошел колок, вернувшись к избе.
Где третий?..
И вдруг меня осенило. Увидев смерть двоих сослуживцев, он убежал. В лесу – части Красной армии, – доложит он, чтобы не смутить командиров тем, что странный мужик в солдатских обмотках и офицерском нижнем белье перестрелял пеший патруль. Да еще и с довоенной фривольной стрижкой.
Не опуская автомата, я выпрямился и быстро направился к дому. Рванул дверь, вошел. Тихо.
Вышел и тут же услышал:
– Стоять!.. – это «Halt!» прозвучало для меня как гром.
«Твою мать…»
Остановившись и замерев, я слышал, как сзади, шагах в пяти, хрустнула ветка. Именно сейчас. Почему это не произошло двумя минутами ранее, когда я прочесывал лес?
– Бросай оружие!..
Что будет, если я не брошу? Он нажмет на спуск. Конечно, ему очень хочется взять меня в плен, но биться за это немец не будет. Он просто прошьет меня очередью.
Вытянув руки, я разжал ладони. Автомат шлепнулся на землю, клацнув антапкой ремня.
– На колени!..
Как был, спиной к нему, я встал сначала на одно колено, потом на другое.
– Лицом ко мне!..
Внутри меня колыхался ужас. Но даже сквозь него пробилось возмущение, что можно было последние две команды поменять местами!
Смешно переставляя ноги, я оказался лицом к нему.
Щуплый солдат, почти мальчик – я не даю ему больше двадцати – ефрейтор, он сжимал «шмайссер» так, что руки у него ходили ходуном и только изредка ствол пересекался с моей грудью. Половина лица его была перепачкана кровью. Рукав на плече чуть надорван и тяжел от крови. Так вот кого я зацепил, стреляя из дверей…
Переизбыток адреналина овладел Птенцом. Он не отдавал себе отчета, что командует мне, русскому, на немецком. Но и со мной происходило что-то неладное, поскольку я только сейчас думаю об этом. Я знаю, что со мной. Страх. Сейчас мне еще хуже, чем в тот раз, когда был выведен из подвала. Час назад я еще плохо соображал. И во что-то верил. В волшебство освобождения и продолжения жизни. Сейчас мной управляла какая-то мохнатая тварь, в меня забравшаяся и оставшаяся за хозяйку. Очертания смерти – рука, уже не белая, а серая, тянулась ко мне, дрожа пальцами…
– Скот!.. скот!.. – закричал Птенец. – Ты убил его, ты убил Германа!.. Русская свинья!..
Реактивное психомоторное состояние наблюдал я в глазах этого пацана. Он не контролировал себя, не контролировал обстановку. Немец лишь твердил не останавливаясь, что я убил какого-то там Германа. Я увидел, как палец его, лежащий на спусковом крючке, чуть побелел. Крючок отъехал назад. Свободный ход закончился. Еще одна тысячная паскаля, и структура ткани моей груди нарушится. Несколько динамических ударов, ранение, пневмоторакс, кровоизлияние во внутренние органы – биологическая смерть.
Все…
– Закрой глаза!.. – заверещал Птенец. Выпуклые белки его глаз блестели от напряжения. Прыщи на лице стали пунцовые. Ему было плохо – я видел. Даже если не позже, а сейчас начать оказывать ему психологическую помощь, о безмедикаментозном лечении нечего и думать. – Закрой глаза, я так не могу!..
Он хочет, чтобы я закрыл глаза. Так ему легче меня убивать. Ирреальность происходящего сводила меня с ума. В какой-то момент нашего противостояния я опустил взгляд, и раздалась очередь…
Я не чувствовал ударов. Быть может, пораженный чувствует то же самое… И лишь спустя несколько мгновений приходит боль, отчаяние, жалость к себе…
Я посмотрел на грудь. На белой, перепачканной землей и кирпичной пылью ткани я не увидел ни единой пробоины. Кровь – была. Засохшая, она слегка раздражала. Но это была не моя кровь.
Подняв взгляд, я увидел, как неестественно ведет себя Птенец. Выпучив в мою сторону – не в меня, а в мою сторону – глаза так, что мне казалось, они вот-вот выкатятся из глазниц, он держал автомат стволом вниз и не шевелился. Я присмотрелся. Из уголка рта его, появившись и набрав силу, выскользнула и помчалась к подбородку тонкая струйка крови.
Ирреальность сводила меня с ума. И – свела– таки?!
И вдруг раздалась еще одна очередь.
Ослепленный брызнувшей мне в лицо, как из брандспойта, кровью Птенца, я закрыл глаза руками и повалился на бок. Качнувшись, немец повалился вперед и упал плашмя. Его изувеченный бритый затылок замер в шаге от моих колен.
Быстро утерев лицо, я вскинул голову.
Мазурин, качаясь едва ли не как маятник Фуко, тупо смотрел прямо перед собой и держал автомат. По-моему, он даже не видел меня.
– Капитан? – позвал я, проверяя его реакцию.
Вместо ответа он, глядя куда-то вдаль, подошел к ефрейтору, опустил ствол автомата и нажал на спуск. Несколько пуль расшевелили уже мертвого Птенца.
– Какой привычный жест, – похвалил я, вместо того чтобы поблагодарить.
– Медленно, доктор, медленно, – проговорил Мазурин, едва шевеля языком, – медленно соображаешь… Нам нужно торопиться…
Сказал – и тут же упал точно так же, как Птенец, я едва успел подхватить его, чтобы он не разбил себе голову.
Он прав. Пора отсюда убираться. Если никто еще не обратил внимания на выстрелы, поскольку они органично смешивались с общим грохотом, то этих троих хватятся скоро. Быть может, их уже ищут…
– Мазурин, вы можете идти? – задал я совершенно неуместный вопрос.
– Да, – неожиданно ответил он. – Только послушай меня внимательно, доктор…
Я усадил его под березу, перед тем как собрать боеприпасы, и теперь он был похож на не добравшегося до дома пропойцу: ноги – раскиданы в стороны, руки – вдоль туловища, голова опущена, подбородок упирается в грудь.
– Когда поймешь, что не можешь меня тащить, уходи один. И выйди из окружения, понял? – Он покачал головой – и стал еще больше похож на пьяного. – Ты сумеешь, я видел… Рано или поздно тебя найдет человек, который спросит, кто тот второй, что был с тобой в кабинете в момент убийства Кирова… Это будет человек из НКВД… И наступят не лучшие для тебя времена… Поэтому лучше скажи здесь и сейчас… где хуже уже и быть не может… скажи – кто?..
Ни слова не говоря, я подсел под Мазурина, завалил его на себя и, бренча двумя автоматами, висевшими на другом плече, пошел в лес. В кармане моем размялись почти до пюре пять картофелин. Ими-то мы и поужинаем. Но только не здесь.
Через час похода я выбился из сил. Мазурин спал. Я разделил пюре пополам и съел. А потом с удовольствием закурил «Беломорканал». Голова закружилась.
«Будет неплохо, если я посплю», – решил я, докурив и почти услышав гул в ногах и почувствовав боль в пояснице.
И уснул.
//- * * * -//
Вряд ли это можно было назвать сном. То и дело я открывал глаза и сквозь мутный, как стакан алкоголика, рассвет рассматривал окрестности. И всякий раз мне мерещились тени, пробирающиеся к нам сквозь деревья. Однажды одна такая тень присела ко мне.
«Будут искать тебя, Саша… – втягивая сигаретный дым, который превращал красивый мелодичный говорок в солидный гул, произнесла тень. – Хирурга из больницы НКВД в Москве знают все, а еврея с улицы Чугунной никто не знает, кроме его мамы, дай бог ей здоровья. Но второй нужен будет непременно… Чтобы пришить. Но его не пришьют, пока первый не назовет его имя. – Еще одна затяжка и просьба, почти мольба: – Даже оставаясь один в комнате, даже если веришь тому, кто в нее вошел, рассказывай историю так, как понадобилось чекистам сразу. Даже если думать об этом будешь – думай так, как хотели чекисты. И запомни: ты жив, пока не назовешь мое имя».
Я открыл глаза.
Привстал и осмотрелся. Болела каждая клетка тела. Нас окружал полумрак, в литературе такое неопределенное состояние называют «между волком и собакой».
Между волком и собакой… Как верно…
Мазурин был в забытьи, но дыхание его было ровно. Положив ладонь на его лоб, я почувствовал холодную испарину. Холодная – пусть. Главное, чтобы не жар. Воспалительный процесс свяжет нас, и двигаться тогда можно будет только ночью.
Я смотрел на него, курил в кулак и дрожал от холода.
Зачем вы приехали на фронт, ребята? Что вам не сиделось на Лубянке? Ловили бы мародеров, тушили бы «зажигалки», раскрывали коварные предательские планы советских военачальников. Нет, примчались. В самое пекло… Словно от военврача Касардина зависел исход этой войны. Словно назови он Яшку, и с именем этим полетит самолет в Берлин, имя это предъявят Гитлеру, и тот, качнув головой, скажет: «Да, напрасно мы вторглись в СССР. Когда там такие люди живут, нечего нам там делать».
Я еще раз провернул в голове ситуацию. Я и Яшка стали свидетелями смерти Кирова. Настоящей смерти Кирова, мы видели, как и при каких обстоятельствах он был убит на самом деле. Из тех, кто не допущен к тайне событий в Смольном первого декабря тридцать четвертого, только я и Яшка. И двое чекистов приезжают на фронт из Москвы, чтобы у одного из них, меня – выбить имя второго. Им нужны оба.
Если бы они имели приказ убрать свидетеля – я был бы уже мертв. Но им, видимо, поставлена задача разыскать обоих. Я найден. Остался Яшка. Круг свидетелей замкнется, если я его назову. Зачем кому-то замыкать этот круг?
Кому-то…
Я призадумался и затянулся. Вокруг пахло травой, сюда еще не добрались копоть и масляный угар танков. Свежий, чуть похолодевший августовский украинский лес… Кому нужно?
ЧК? Вот уж самое время искать врагов народа и выполнять план по «быкам»! Что-то не так здесь…
Я вмял окурок папиросы в землю, придавил ботинком. Растер. Мелькнула мысль, что было бы неплохо сейчас разбудить Мазурина. И маленько попытать. Чтобы приоткрыл тайну своего появления на передовой. Но я вспомнил, как его уже пытали. Причем на моих глазах. И этот негодяй спасал мою жизнь до последнего, чтобы спасти дело.
– Мазурин!