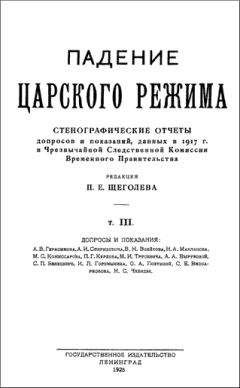— Это подарок, — мило улыбнулась мадам Жозефина и пристально посмотрела на Воловцова: — А может, вы предпочитаете зрелых и весьма опытных в любовных делах дам? Вы только скажите — и у вас тотчас будет такая…
— Давайте все же подождем Кити, — понял вполне прозрачный намек Иван Федорович. — А часики у вас — хороши. Позвольте взглянуть? — Он мягко принял руку мадам Жозефины в свою и посмотрел на часы. — Конечно, компания «Лонжин». Знаете, совсем недавно я видел подобные часы у моего друга Вани Жилкина. Ну, один в один…
— Так это он мне их и подарил! А Жилкин… он что, ваш друг? — брови мадам Жозефины поползли вверх.
— Ну, как вам сказать, — немного замялся Иван Федорович. — Скорее, не друг, а приятель. Знакомый, в общем… А когда он вам их подарил?
— Вчера, — несколько недоуменно ответила содержательница публичного дома.
— Вот ведь как… — задумчиво произнес Воловцов. — А ведь он мне обещал их продать.
— Не повезло вам, — улыбнулась Прасковья-Жозефина. — Может, пока угостить вас кофеем?
— Не стоит, благодарю вас, — улыбнулся в ответ Иван Федорович. — А Иван-то Захарович каков, а? Слова своего совсем не держит, проказник эдакий. Не ожидал я от него такого…
— Вы не обижайтесь на него. — Мадам Жозефина, наконец, убрала свою руку из ладоней Воловцова. — Он мне был должен еще с прошлого разу, вот и расплатился часиками. Он долги всегда отдает…
— Да я и не обижаюсь… Может, у него еще такие часики имеются? — Иван Федорович пытливо посмотрел на женщину, но та лишь неопределенно пожала плечами:
— Может, и имеются.
— И где мне его теперь найти?
— А что его искать, — усмехнулась мадам Жозефина. — В нашем заведении он гость частый. Приходите на следующей неделе, в среду или четверг, точно его застанете….
— Нет, мне раньше с ним повидаться бы надо, — ответил Воловцов.
— Ну, тогда сегодня вечером загляните в бильярдную «Потешного сада». Он там каждый вечер шары гоняет…
— Вот за это спасибо! — Иван Федорович и правда был доволен. Теперь оставалось лишь доделать начатое, однако маску простого посетителя борделя, озабоченного нехваткой женской ласки, придется снять. — Да, и еще. — Он остро посмотрел на содержательницу публичного дома, чем вызвал у нее явное замешательство: — Я, мадам Жозефина, уж вы простите, вынужден изъять у вас эти часики…
— Как так? — удивлению содержательницы публичного дома не было предела.
— А так. Есть подозрение, что часики эти появились у гражданина Ивана Захаровича Жилкина незаконным путем. И часы эти могут служить доказательством, то есть уликой его причастности к совершенному уголовному преступлению…
— А вы, стало быть, являетесь…
— А я, стало быть, и вы абсолютно правы, уважаемая Прасковья Степановна, являюсь следователем, ведущим это дело, — перебил ее Воловцов и добавил: — Документики показать?
— Не стоит, — холодно произнесла Прасковья-Жозефина. Она действительно хорошо разбиралась в людях и умела отличить правду ото лжи…
— Вот и славно, — доверительно улыбнулся Иван Федорович. — Вы, Прасковья Степановна, часики-то снимайте…
Умная женщина Прасковья Волошина не стала испепелять судебного следователя Воловцова взглядом, желая при этом, чтобы Иван Федорович задымился и в конечном итоге обуглился и обратился в кучу пепла. Стараясь держаться как можно спокойнее и не выказывать беспокойства, она сняла часы с руки и положила на столик. Золото, сверкнув желтым бочком, столь уютно смотрелось на инкрустированном перламутром столике, что, казалось, это просто принадлежность стола, некая деталь или рисунок, искусно дополняющий инкрустацию…
— Благодарю вас. — Воловцов взял часы и положил во внутренний карман сюртука. — А теперь, Прасковья Степановна, извольте написать расписочку, что принадлежащие вам часы, подаренные гражданином Жилкиным Иваном Захаровичем, изъяты сегодня господином судебным следователем Воловцовым Иваном Федоровичем в интересах следствия. Затем поставьте сегодняшнее число и свою подпись…
— Не буду я ничего писать, — вполне определенно высказалась мадам Жозефина, темнея лицом. — Не мои это часы, а где их взял Жилкин, про то не ведаю и знать не желаю…
— Понятно, — спокойно произнес Иван Федорович и как бы между прочим добавил: — Тогда собирайтесь…
— Куда это?
— Известно куда: в полицейскую часть, — просто, без обиняков ответил Воловцов.
— Зачем? — продолжала изображать непонимание Прасковья Волошина.
— За препятствие ведению следствия, мадам Жозефина. Часы — это улика, изъятая у вас. И это надо документально подтвердить, для чего я и требую составить расписку. Иначе у вас будет большое искушение и полная возможность заявить, что это часы не ваши, и вы их никогда на руке не носили и вообще в глаза никогда их не видели. И, естественно, никакой Иван Захарович Жилкин вам их не дарил в счет долга за пользование вашими девочками. И я остаюсь, что?.. Правильно. Я остаюсь с носом. А я, знаете ли, сударыня, очень не люблю оставаться в дураках. Это для моей службы крайне чревато и лично мне крайне оскорбительно и обидно… На душе потом так погано, что впору высунуть лицо в форточку и завыть, глядя на луну. Неужели, сударыня, вы хотите, чтобы я выл на луну?
— Нет, я не хочу, чтобы вы высовывались в форточку и выли на луну, — ответила Прасковья-Жозефина, понимая, что человек перед ней серьезный и от своего ни за что не отступится. Она подозвала служанку, велела ей принести ручку, чернила и бумагу и написала расписку именно так, как того хотел Иван Федорович. Потом, подув на чернила, чтобы скорее подсохли, передала уже не просто бумагу, а документ судебному следователю со словами: — Вот, прошу вас. Надеюсь, господин судебный следователь, ко мне претензий у вас больше не имеется?
— Ни в коей мере, — выставил перед собой руки Иван Федорович, как бы защищаясь и одновременно оправдываясь. — Более того, я прошу вас покорнейше простить меня за причиненные неудобства и некоторое волнение, которое я вам невольно причинил.
— Я не волновалась, — заметила содержательница публичного дома, на что Воловцов, в свою очередь, не преминул сказать:
— Нет, волновались. Правда, вы хорошо это скрывали…
Мадам Жозефина ничего не ответила. И правильно, поскольку спорить с судебными следователями по наиважнейшим делам себе дороже…
— А теперь, — поднялся с кресла Иван Федорович, — разрешите откланяться и заверить вас, милейшая Прасковья Степановна, в моем искреннем к вам расположении. Кстати, — добавил он, сведя брови к переносице, — если я не обнаружу сегодня господина Жилкина в бильярдной «Потешного сада», я буду знать, кто его предупредил. А сокрытие преступления или преступника — уже деяние, которое наказуется, причем в уголовном порядке… Вы меня понимаете?
— Да полноте, зачем мне это надо? — как-то даже устало произнесла содержательница публичного дома.
— Вот и я так думаю, — согласно кивнул судебный следователь. — И правда, зачем нам портить столь доверительные отношения, установившиеся между нами, верно? А девочки у вас и вправду хороши. Не будь я при исполнении… Э-эх! Такой соблазн! А знаете, мадам Жозефина, может, я к вам как-нибудь и наведаюсь, а то как-то одиноко бывает.
Мадам Жозефина как-то странно посмотрела на него и промолчала. Ей не хотелось больше говорить. Хотелось одного: чтобы этот судебный следователь поскорее ушел.
И он, наконец, ушел…
«Потешный сад» завел в Сыромятниках антрепренер Андрей Черепанов. Сад этот мало чем отличался от «Эрмитажа» или «Аквариума». Ну, разве что был рассчитан на публику поплоше: мещан, мастеровых, торговцев и мелкую чиновную сошку.
Гуляние начиналось в шесть вечера, о чем громогласно вещал зазывала у ворот сада. Воловцов пришел в половине седьмого, заплатил за вход тридцать копеек и пошел осматриваться. Все представления начинались в половине девятого, так что отдыхающей публики пока было маловато. В основном это была молодежь с рабочих окраин, приодетая по случаю выхода в свет в самое лучшее. Парни и молодые мужчины были через один с тросточками, копируя высший свет, а девицы поголовно в модных прическах.
— Ба-а, мамзель Глафира, какая вы сегодня вся из себя распрекрасная, — услышал Иван Воловцов громкий прокуренный голос. — Ну, прям вылитая Лина Кавальери.
Он обернулся и увидел высокого парня с цигаркой во рту, эдаким гоголем расхаживающего вокруг пухленькой девицы, пришедшей на гуляние с худой печальной подругой, на которую, верно, никто и никогда, как и сейчас, не обращал никакого внимания.
— Чево это вы такое, сударь, говорите? — кокетливо вскинула на него глаза Глафира.
— Я говорю вам сущую правду, несравненная мамзель Глафира, — расплылся в широкой улыбке парень и выплюнул цигарку, — и очень даже хороший комплимент. Ведь эта Лина Кавальери, можно сказать, первейшая на свете красавица!