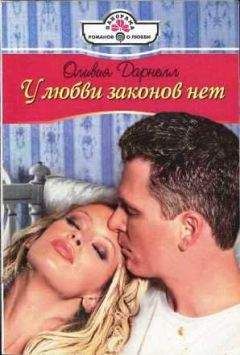охотников самым мелким, чтобы ходить на перепела и гаршнепа, полтора миллиметра. А двенадцатым вообще никого убить невозможно, – негодовал доктор.
Наверное, жалеет, что случай слишком лёгкий, ну, мне же лучше, – обрадовалась Софья.
– Но вот что странно, – продолжал доктор, – для чего вообще применяют мелкую дробь? Разумеется, чтобы в навеске было больше дробинок! Чтобы увеличить количество надёжных попаданий! Я не охотник, но, помнится, в десяти граммах девятого номера, тоже довольно мелкой, двухмиллиметрового диаметра, на перепела, бекаса, дупеля, двести семь дробин. Навеска зависит от калибра. Ружья, из которого тут стреляли, я пока не видел, но для двенадцатого калибра в навеске тридцать два грамма, для шестнадцатого – двадцать восемь грамм, для двадцатого – двадцать три грамма. То есть, даже для двадцатого калибра и даже для девятого номера дроби мы имели бы двести семь умножить на двадцать три и поделить на десять – навскидку, чуть ли не пятьсот дробинок. Для более крупного калибра, о чём, впрочем, пока что неизвестно, но можно выяснить… пожалуй, даже необходимо выяснить… а главное, для двенадцатого номера дроби… мы получим какое-то чудовищное количество дробинок, наверное, тысячу. И где они, спрашивается? Да тут и двадцати не наберётся! Кучность если мне правильно сказали расстояние выстрела, должна быть очень хорошей… Может, вы, голубушка, – доктор, наконец-то, заметил, что Софья открыла глаза, – успели спрятаться за какой-нибудь столбик у крыльца? Я знаю, у красотки есть сторож у крыльца, – вдруг запел он, не прерывая, впрочем, своего занятия и только мельком изредка взглядывая в лицо пациентке, пока, разжимая пинцет, выкладывал очередную дробинку в какую-то плошку, чтобы потом пересчитать, – никто не загородит дорогу молодца! Смешно, я в детстве думал, что укрылец – это такой человек, который укрывает эту самую красотку и желает ей спокойной ночи, представляете? А вот кто такой сторож этого укрыльца, и почему он должен загораживать дорогу молодца, понять не мог. Но вам очень повезло, – вдруг вернулся он к прежней теме, – какова бы ни была причина этого. Я имею в виду, и с теми на удивление немногочисленными попаданиями, какие есть. По крайней мере пока что. Все они в кость! В грудину, в рёбра. Ни одна дробинка не попала, например, меж рёбер в лёгкие, что представляло бы значительно более сложный случай. Наука пока не может обеспечить меньшее повреждение лёгочной ткани при операции, чем уже причинила, точнее, в данном случае не причинила, дробь, так что оставалось бы ждать, чтобы они зажили сами собой и внутренне кровотечение прекратилось. А при непрекращающемся кровотечении в лёгкие был бы возможен даже фатальный исход. Я это говорю только потому, что, хоть ещё и не все дробинки вытащил, но уже все ранки осмотрел и убедился, что они все в этом смысле не опасны… Кроме того! Не только удивительно мало попаданий, и дробь самая неопасная, на самую мелкую птицу, да и то лучше бы на номер крупнее. То есть не лучше, конечно, ну, вы меня понимаете, в охотничьем смысле лучше. Так ещё и дробь, насколько я могу судить, английская, какой-то из трёх лучших фирм, Lane and Nesham, The Newcastle Chilled Shot либо Walker’s Parker Hardened Shot. Покрыта очень плотным слоем никеля, что немаловажно. Потому что, да будет вам известно, свинец, из которого делается дробь, ядовит. Утки нередко погибают от отравления свинцом, даже ни разу не пораненные: они глотают найденные дробинки, а охотников развелось сейчас много. А через ранки вы тоже могли бы получить в организм порцию свинца. Хоть вы не такая мелкая девушка, чтоб вас сравнивать с уткой, не говоря уже о перепёлке, но ничего полезного бы не было в этом, если бы не слой никеля, настолько плотный, что, насколько, опять-таки, я могу судить, ни на одной дробинке он не разрушился от прохождения через ствол. Честно говоря, голубушка, никель на дробинки нанесён чтобы защитить не вас, а, как ни парадоксально, ствол ружья – от освинцовывания. Свинец – мягкий металл, не будучи изолирован, он буквально намазывается на внутреннюю поверхность ствола и затрудняет чистку…
Странный доктор, – отметила какая-то часть сознания Софьи, – он, похоже, больше охотник, чем врач, вопреки его собственному утверждению… И, как честный человек, он обязан на мне жениться, – подумала она с внезапны в её положении юмором, потому что доктор, постепенно раздвигая одежду, добрался уже до абсолютно неприличных участков груди, так что она плотно зажмурилась, не желая зрительного контакта в такой неловкой ситуации. – С другой стороны, тогда у него, при его профессии, был бы уже целый гарем. А может, у него и есть уже целый гарем, откуда мне знать? Или наоборот, вид женского тела для него привычен и ничуть его не соблазняет? Кажется, он не женат, хотя уже не слишком молод… Но как же мне всё-таки повезло, подумать только! А если б в ружье была не мелкая дробь, а на медведя? Хотя откуда у нас медведи. Но если б? Скажем, на случайного грабителя припасена? Зачем ещё нужно в доме заряженное ружьё? Но по моему глупому поведению – было бы только справедливо. Надо же, додумалась, целиться в Эдмунда! Да лучше бы я сама застрелилась, чем причинила ему малейшее зло! А я ведь и причинила! Ведь – как он теперь?..
Меж тем другая часть её сознания фиксировала каждое движение иглы и пинцета доктора. По мере того, как он обеззараживал ранки с уже извлечёнными дробинками, казалось, что не только новые ранки начинало жечь, но и уже ранее смазанные начинали гореть всё сильнее, так что боль, первоначально совсем незначительная, увеличивалась в геометрической прогрессии. Это переживание отнимало всё больше сил, чтобы не стонать, потому что стонать – и вообще обращать на себя дополнительное внимание – было стыдно. Вдруг, если затаиться, доктор сочтёт, что она не в полном сознании, а значит, уже не так стыдно будет? А по мере того, как она всё больше приходила к выводу о том, что послужила пусть невольной, но виновницей чего-то ужасного, что теперь грозило Эдмунду, боль начинала восприниматься ею как справедливое наказание, как своего рода средство очищения, чтобы она стала его достойной. От этой не то чтобы мысли, скорее, неясного впечатления, боль, казалось, становилась сильнее, что она, или, точнее, эта отчасти скрытая от неё самой часть сознания только приветствовала. В конце концов, Софья впала в какой-то почти что религиозный экстаз и обеспамятела вторично, а пришла в себя нескоро.
Меж тем Эдмунд не дождавшись полиции, решил, что доктору и, соответственно, Софье он ничем не поможет,