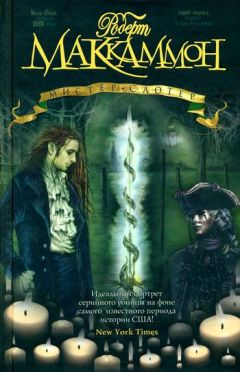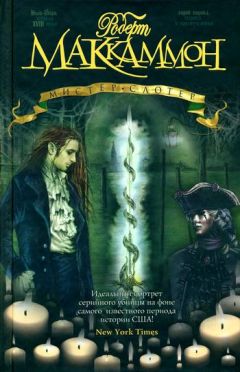— Оба ответа отрицательны.
— Где вы жили до ареста?
— То здесь, то там. Больше там.
— А работали где?
— На дороге, мистер Корбетт. Мы с моим партнером отлично действовали и неплохо жили собственным проворством и богатством путешественников. Да упокоит Господь душу Уильяма Рэттисона.
— Его сообщник, — пояснил Хальцен, — был убит при последней их попытке ограбления. Видно, даже у квакеров кончается терпение, и они в один из дилижансов от Филадельфии до Нью-Йорка посадили вооруженных констеблей.
— Скажите, — обратился Мэтью к Слотеру, — вам с Рэттисоном случалось убивать, когда вы… жили собственным проворством?
— Никогда. Ну, случалось мне или Рэтси дать кому-нибудь по голове, кто начинал невежливо разговаривать. Убийства не входили в наши намерения — в отличие от денег.
Мэтью потер подбородок. Что-то все же его в этом во всем беспокоило.
— И вы решили лучше поселиться до конца дней в сумасшедшем доме, чем предстать перед судьей и выслушать приговор… скажем, клейма на руку и три года тюрьмы? Это потому что вы считали, будто из сумасшедшего дома сбежать легче? И почему сейчас вы так охотно покидаете его, не пытаясь даже отрицать обвинения? В конце концов, тот квакерский врач мог ошибиться?
На губах у Слотера снова мелькнула улыбка — и медленно погасла. Отстраненное выражение глаз так и не изменилось.
— Дело в том, — произнес он, — что я никогда не лгу людям, которые не дураки.
— То есть людям, которых нельзя одурачить, — буркнул Грейтхауз.
— Я сказал, что хотел сказать. И в любом случае меня отсюда вывезут, доставят на корабль и отправят в Англию. Я предстану перед судом, меня опознают свидетели, заставят показать могилы трех очень красивых, но очень глупых барышень и вывесят под гогот толпы на виселице — в любом случае. Так зачем же мне не быть правдивым и марать свою честь перед такими профессионалами, как вы?
— А не в том ли дело, — предположил Мэтью, — что вы полностью уверены в том, что сбежите от нас по дороге? Даже от таких профессионалов, как мы?
— Это… это мысль. Но, дорогой мой сэр, не осуждайте ветер за желание дуть.
Грейтхауз вложил ордер на передачу и копии обратно в конверт.
— Мы его забираем, — произнес он довольно мрачно. — Остался вопрос денег.
— Вечный вопрос, — быстро вставил Слотер.
Рэмсенделл подошел к столу, выдвинул ящик и достал матерчатый мешочек.
— Два фунта, насколько я помню. Пересчитайте, если угодно.
Мэтью видел, что у Грейтхауза было большое искушение именно так и поступить, когда мешочек лег ему на ладонь, но желание как можно быстрее покинуть сумасшедший дом оказалось сильнее.
— Нет необходимости. На выход! — скомандовал он заключенному и показал на дверь.
Когда они шли к фургону — первым Слотер, за ним Грейтхауз, дальше Мэтью и два доктора, — из окон центрального здания послышались вой и улюлюканье. К решеткам прижались бледные лица. Грейтхауз не сводил глаз со спины Слотера. И вдруг невесть откуда взявшийся Джейкоб зашагал рядом с Грейтхаузом, с надеждой спрашивая:
— Вы приехали отвезти меня домой?
Грейтхауз на секунду заледенел. Мэтью у него за спиной тоже сам почувствовал, как замер.
— Милый мой Джейкоб, — ответил Слотер ласковым сочувственным голосом, и красная искорка мелькнула у него в глазах. — Никто не приедет отвезти тебя домой. Ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра. Ты до конца дней своих останешься здесь и умрешь в этих стенах. Потому что, милый мой Джейкоб, все тебя забыли и никто никогда за тобой не приедет.
Джейкоб со своей обычной полу-улыбкой ответил:
— Я слышу у себя в голове…
И тут что-то дошло до него, кроме музыки, потому что улыбка его треснула, словно череп в тот роковой день несчастья. В расширенных глазах отразился ужас, будто Джейкоб снова увидел летящее на него лезвие двуручной пилы и знал уже, что увидел слишком поздно. Рот у него раскрылся, застывшее лицо побледнело, как у тех, кто вопил за решетками. В тот же миг доктор Хальцен оказался рядом, положил руку ему на плечо, обнял и сказал почти на ухо:
— Джейкоб, пойдем, пойдем со мною, чаю выпьем. Пойдем?
Джейкоб позволил себя увести, но лицо у него было отрешенным.
Слотер смотрел им вслед. Мэтью заметил, что убийца поднял голову выше, будто гордясь хорошо сделанной работой.
— Ботинки снять, — велел Грейтхауз.
— Простите, сэр?
— Снимай ботинки. Быстро.
С некоторыми затруднениями из-за связанных рук Слотер разулся. Грязные ноги с кривыми ногтями выглядели не слишком приятно, да и воздух тоже не насытили ароматом.
— Брось в колоду.
Слотер посмотрел на Рэмсенделла, но тот не сделал попытки вмешаться. Бумаги подписаны, деньги переданы. Этот негодяй к нему больше отношения не имеет.
Слотер подошел к поильной колоде, бросил туда ботинки один за другим.
— Мне-то, в общем, безразлично, — сказал он. — Но лошадок жалко.
И улыбнулся Грейтхаузу улыбкой святого великомученика.
Грейтхауз подтолкнул Слотера к фургону. Потом вытащил из-под сиденья пистолет, взвел курок и, стоя за спиной арестанта, приставил дуло к его левому плечу.
— Доктор Рэмсенделл, я полагаю, он был тщательно обыскан в поисках возможного оружия?
— Вы сами можете видеть, что на одежде нет карманов, и тело тоже осмотрели.
— Это было восхитительно, — вздохнул Слотер. — Но радость заглянуть мне в задницу они оставили вам.
— Снимите наручники, — сказал Грейтхауз.
Доктор вставил ключ в замок, запиравший кожаные браслеты. Когда их сняли, Грейтхауз приказал:
— Туда, назад, — и подвел Слотера к заднему борту фургона. — Наверх, — скомандовал он. — Медленно.
Арестованный подчинился, не говоря ни слова, опустив голову.
— Подержи его под прицелом, — обратился Грейтхауз к Мэтью.
— Ради Бога! — вздохнул Слотер устало. — Вы же не считаете, будто я хочу, чтобы меня застрелили? И кстати, не думаю, чтобы это понравилось квакерам.
— Целься в колено, — посоветовал Грейтхауз, отдавая Мэтью пистолет и забираясь в фургон. — Мы обещали, что не убьем его. Сесть!
Слотер сел, глядя на Мэтью несколько озадаченно.
Грейтхауз достал из холщевого мешка кандалы. Они состояли из наручников, соединенных цепью с парой ножных кандалов. Цепь была настолько коротка, что даже если бы Слотер мог встать, то стоять ему пришлось в очень неудобном положении, изогнувшись назад. Другая цепь, отходящая от правого кольца ножных кандалов, заканчивалась двадцатифунтовым чугунным ядром, иногда называемым «громом» — из-за звука, с которым оно волочится по каменному полу тюрьмы. Пристегнув второе ножное ядро, Грейтхауз вложил ключ в карман рубашки.
— Ой! — забеспокоился Слотер, — мне нужно по-серьезному.
— Для того штаны есть, — ответил Грейтхауз, взял у Мэтью пистолет и осторожно снял курок с боевого взвода. — Ты правь, я буду охранять.
Мэтью отвязал коней, сел на сиденье, вытащил тормоз и взял вожжи. Грейтхауз забрался рядом с ним, повернувшись лицом к арестанту. Пистолет он положил на колени.
— Осторожнее езжайте, джентльмены, — сказал Рэмсенделл с некоторой радостью в голосе — очевидно, от облегчения. — Быстрой вам дороги, и да хранит вас Бог.
Мэтью повернул лошадей и направил их в сторону большака. Хотелось ему хлестнуть вожжами да пустить коней рысью, но прежние попытки «быстрой дороги» приводили только к медленному топоту старых копыт. А теперь еще лошадям приходилось тащить лишних двести фунтов.
Сзади слышались вопли и завывания безумцев за решетками окон.
— Прощайте, друзья! — мощным голосом крикнул им Слотер. — Прощайте, добрые души! Мы еще встретимся с вами на дороге в рай! — И потише добавил: — Ах, моя публика! Как же они меня любят!
— Дождем пахнет.
Это были первые слова, которые произнес Слотер после выезда из общественной лечебницы для душевнобольных. Лошади к тому времени протащили фургон уже четыре мили по большаку, и Мэтью сам видел, как на западе клубятся тучи, наваливаясь черным брюхом на землю, и тоже слышал едва заметный характерный металлический запах, предвещающий бурю. Но как это Слотер…
— Вы, наверное, спрашиваете себя, — продолжал арестант, — как я могу ощущать какой бы то ни было запах в условиях, когда от меня самого так… гм… пахнет. Увы, я не всегда был таким. Я каждый раз радовался дню купания и бритья, хотя мне, конечно, не разрешали держать бритву. Но и этих радостей меня лишили, когда врачи так испугались одной моей тени.
Он замолчал, ожидая ответа от Грейтхауза или от Мэтью, но не дождался.
— Хорошее бритье, — продолжал он, будто ведя разговор в палате лордов, — это неоценимое сокровище. Гладкая кожа кресла, облекающая спину просто… просто вот так. Горячее полотенце, от которого пар идет, чтобы подготовить лицо. Теплая пена, пахнущая сандаловым деревом, нанесенная пушистой барсучьей кисточкой. Нет-нет, не слишком много, нельзя же зря тратить такую ценность! А потом… потом сама бритва. Джентльмены, создавал ли разум человека инструмент более совершенный? Ручка — костяная, или из благородного слонового бивня, или твердой древесины ореха, или же сверкающего перламутра. И само лезвие, тонкое, изящное, и такое женственное. Красота, симфония, блестящее произведение искусства!