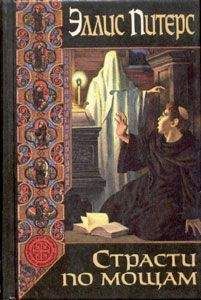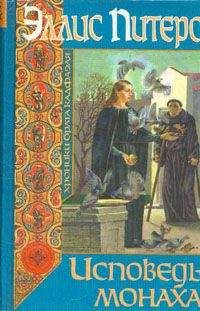Эдди сердито махнул рукой, резко повернулся и зашагал прочь. Проводив возмущенного юношу долгим, задумчивым взглядом, брат Кадфаэль едва заметно улыбнулся.
Однако же перед возвращением в лазарет, к постели больного, монах счел за благо избавиться от этой улыбки, справедливо опасаясь того, что мастер Рид мог бы, не приведи Господи, истолковать ее превратно. К своим неприятностям, семейным размолвкам и выходкам непутевого отпрыска он и раньше-то относился более чем серьезно, а в нынешнем положении ему и подавно не до шуток. Лежа в постели, он хмуро таращился в потолок и, едва завидел Кадфаэля, принялся сетовать на судьбу, хотя и говорил с трудом, кривясь от боли.
— Видишь, брат, каково мне приходится? Добрые люди знают, что уж где-где, а дома-то их всегда ждут поддержка и утешение — а у меня что? Послал Бог сынка — в голове ветер, язык без костей, старших не слушает. Ты ему слово скажешь — а он в ответ десять.
— Вижу, вижу, приятель, — поддакнул Кадфаэль с напускным негодованием. — Теперь-то я убедился — ты прав. Оно и не мудрено, что тебе захотелось проучить этого лоботряса. Правильно ты решил — пусть-ка посидит в темнице на хлебе и воде. Там он, глядишь, ума-разума наберется.
Мастер Уильям смерил Кадфаэля угрюмым взглядом и резко возразил:
— Что за чушь? Неужто ты и вправду думаешь, что я позволю упрятать родное дитя в темницу? Кому это и когда оковы да подземелья добавляли ума-разума? И нечего называть его лоботрясом, ежели и есть у него дурь в голове, так это по молодости. Припомни, разве мы с тобой в его годы не были шалопаями? Мой Эдди — парень как парень, ничуть не хуже других, а серьезность и рассудительность придут с годами.
Несчастье, постигшее мастера Уильяма, никого не оставило равнодушным. И братья, и служки, и гости обители только об этом и говорили. Все сочувствовали управителю и наперебой строили догадки насчет того, кто мог совершить злодейское нападение и куда подевались монастырские деньги.
Джэйкоб, похоже, так и не оправился от потрясения. С самого рассвета он, вместо того чтобы заниматься делами, отирался возле дверей лазарета. А дел между тем у него было невпроворот, потому как обязанности больного управителя теперь тоже легли на плечи молодого писца.
В конце концов Кадфаэль решил успокоить преданного служителя, заверив его в том, что худшее позади.
— Можешь не беспокоиться, приятель. Ступай да займись лучше своей работой. Мастер Уильям поправляется, ему уже лучше.
— Ты правду говоришь, брат? Стало быть, он пришел в себя. А говорить он может? Память к нему вернулась?
Кадфаэль вновь терпеливо повторил сказанное ранее, но Джэйкоб не унимался:
— Но какое злодейство! И у кого только рука поднялась? Скажи, брат, сумел он хоть чем-нибудь помочь людям шерифа? Разглядел он того негодяя? Смог его описать? А может, и имя назвал?
— Увы, об этом он ничего рассказать не смог, потому как никого не видел. Ударили-то его сзади, да так сильно, что он и обернуться не успел — сразу лишился чувств. Очнулся он только сегодня утром здесь, в лазарете. Сержант, понятное дело, обо всем его расспрашивал, но, боюсь, мало чего добился. Мастер Уильям и рад бы помочь в поисках грабителя, да не может. Злодей, скорее всего, на то и рассчитывал.
— Ну а мастер Рид? Он совсем поправится? Будет здоровым и крепким, как прежде?
— Непременно. Поправится полностью, и довольно скоро. Ждать тебе долго не придется.
— Благодарение Богу, брат, — с пылом воскликнул Джэйкоб, закатывая глаза к небу.
Похоже, на сей раз Кадфаэлю удалось убедить молодого писца в том, что ему незачем торчать возле лазарета. Успокоенный добрыми вестями, Джэйкоб смог наконец вернуться к своим счетам. С пропажей арендной платы за целый год обитель понесла немалый урон, и тем важнее было не оставлять в небрежении текущие дела.
Вскоре выяснилось, что состояние пострадавшего управителя волновало не только его писца — в чем не было ничего удивительного, — но и совершенно посторонних людей. Например, Уорина Герфута. Гостивший в обители бродячий торговец остановил брата Кадфаэля на дворе и чрезвычайно почтительно справился о здоровье управителя. В отличие от Джэйкоба, он вовсе не пытался изобразить глубокое волнение, ибо управителя толком и не знал, но выказал возмущение злодейским преступлением против церковной собственности и аббатского служителя, подобающее доброму христианину и гостю обители. Конечно же, он, как человек добропорядочный и законопослушный, выразил твердую уверенность в том, что справедливость непременно восторжествует, а лиходей рано или поздно будет изобличен и понесет заслуженную кару.
— Так, значит, его честь пришел в себя? А смог ли он рассказать, как же случилось это несчастье? Видел ли он злодея?.. Нет! Ах, какая жалость. Но ничего, отчаиваться не стоит. Господь не попустит, чтобы такое преступление осталось безнаказанным. И, уж конечно, грабителю не удастся воспользоваться похищенными деньгами. Ведь они принадлежат аббатству, а стало быть, самой Святой Церкви.. И вот что хотелось бы знать — ежели какой-нибудь человек, добропорядочный и честный, найдет пропавшую суму и вернет деньги обители, положена ли ему будет за это награда?
— Вполне возможно, — искренне ответил Кадфаэль. — Всякое благое деяние должно быть вознаграждено.
Уорин распростился с монахом и направился в город, не иначе как по своим торговым делам. Спина его сгибалась под весом здоровенного тюка, однако же шагал он чрезвычайно бодро и целеустремленно.
Однако по-настоящему удивил брата Кадфаэля и даже заставил его несколько насторожиться другой человек, также проявивший живой интерес к мастеру Риду. То был брат Евтропий. В отличие от прочих, он появился не утром, а ближе к полудню, как раз когда брат Кадфаэль вернулся в лазарет, малость вздремнув после бессонной ночи. В помещение Евтропий вошел не спрашивая разрешения, а войдя, неподвижно замер в ногах у постели больного, вперив в того взгляд. Глаза Евтропия глубоко запали, лицо походило на каменную маску. На находившегося здесь же брата Кадфаэля Евтропий не обратил никакого внимания — возможно, он даже не заметил его присутствия. Смотрел этот странный посетитель только на управителя.
Между тем мастер Рид, вернувшийся к жизни чуть ли не с того света, забылся глубоким сном, причем вид у него, несмотря на забинтованную голову, был спокойный и безмятежный.
Минута тянулась за минутой, но Евтропий, словно на него столбняк напал, оставался на месте. Лишь губы его шевелились, беззвучно проговаривая молитвы. Затем неожиданно по телу его пробежала дрожь. Он огляделся по сторонам с таким видом, словно воспрял из забытья, размашисто перекрестился и, так и не проронив ни слова, вышел вон.
И весь облик и необычное поведение брата Евтропия не могли не озадачить Кадфаэля. Он заинтересовался настолько, что решил выяснить, куда пойдет и что будет делать этот угрюмый и нелюдимый монах. Выскользнув из лазарета, Кадфаэль незаметно, держась на почтительном расстоянии, последовал за братом Евтропием, который, как выяснилось, направлялся в церковь.
Войдя в храм, брат Евтропий преклонил колени перед высоким алтарем. Лицо его было бледным, как мрамор, руки не просто сложены, а судорожно сжаты. Опущенные веки прикрывали глаза, но длинные темные ресницы дрожали. Не приходилось сомневаться в том, что этот видный, рослый и широкоплечий мужчина лет тридцати испытывал тяжкие муки, но муки не телесные, а духовные. То ли его терзала тайная страсть, то ли не давала покоя нечистая совесть.
Молился Евтропий тихо, почти безмолвно, но в свете алтарных свечей было видно, как шевелились его губы, вновь и вновь повторяя покаянную молитву:
— Я виновен… Вина моя велика…
Кадфаэлю очень хотелось шагнуть вперед, заговорить с этим человеком, попытаться растопить лед отчуждения между ним и другими братьями, однако же он решил, что время для такого шага еще не приспело. Так же тихо, как и пришел, Кадфаэль покинул церковь, оставив Евтропия наедине с самим собой и Господом Богом. Что бы ни вызвало к жизни этот порыв, в каких бы прегрешениях ни каялся Евтропий столь самозабвенно и пылко, ясно было одно — панцирь его одиночества, доселе непроницаемый, дал трещину и таким, как прежде, ему уже не быть.
Перед вечерней Кадфаэль отправился в город, намереваясь заглянуть к миссис Рид да порадовать женщину последними новостями о состоянии здоровья и видах на поправку ее супруга. На перекрестке ему случайно повстречался сержант, посетовавший на то, что злодея покуда обнаружить не удалось, и рассказавший, как ведутся поиски.
Первым делом, как это обычно бывает в подобных случаях, шериф приказал задержать и допросить всех, чей образ жизни мог внушать подозрения. Впрочем, сделано это было скорее для очистки совести — в городе всякий человек на виду, а ежели кто пьяница или игрок, это еще не значит, что он способен и на грабеж. Так или иначе, самые беспутные горожане отчитались за то, где и как провели прошлый вечер, сообщили, кто может это подтвердить, и были отпущены с миром. Приятели Эдди, как и следовало ожидать, охотно, слово в слово повторили его рассказ: дескать, повстречались они на стрельбище, что под городской стеной, побились об заклад, кто окажется самым метким, и на сей раз повезло молодому Риду. Но все эти парни были закадычными дружками Эдди, и проверить, говорят они правду или стараются во что бы то ни стало выгородить товарища, не представлялось возможным.