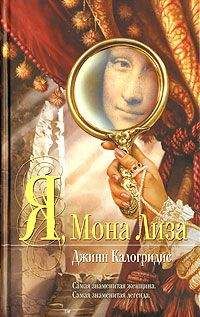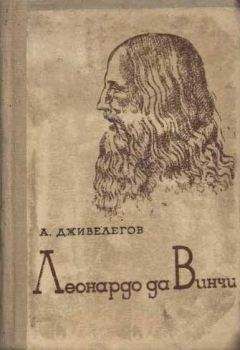Как только мама вцепилась в мою руку, словно стараясь меня защитить, Дзалумма тут же взяла другую руку мамы.
— Тише, мадонна. Вы должны успокоиться… Наклонившись, она зашептала маме в ухо. Мама возмущенно мотнула головой и обвила мои плечи рукой. Она крепко прижалась ко мне, словно я была маленьким ребенком. Дзалумма уже не обращала внимания ни на проповедника, ни на его «плакс», она не сводила настороженного взгляда с хозяйки. Я тоже начала беспокоиться, чувствуя, как взволнованно дышит мама, как крепко держит меня за плечи.
— Это неправильно, — хрипло прошептала она. — Это неправильно…
Но вокруг так много людей рыдало и стенало, обращаясь к фра Джироламо и Богу, что даже отец не обратил на маму внимания; он и Пико как завороженные слушали речи проповедника.
— О Всевышний! — пронзительно завопил фра Джироламо. Он прижал лоб к сложенным рукам, горестно всхлипнул, после чего воздел заплаканное лицо к небу. — Всевышний, я всего лишь ничтожный монах. Я не просил, чтобы Ты посетил меня, я не жаждал говорить с тобою или лицезреть видения. И все же я смиренно подчиняюсь Твоей воле. Твоим именем я готов, как Иеремия, вынести страдания, выпадающие на долю пророков из-за деяний нечестивых.
Он бросил взгляд на нас, неожиданно смягчившись.
Меня душат рыдания… Я лью слезы, как и вы, оплакивая ваших детей. Я оплакиваю Флоренцию, ведь ее ожидает кара. И все же, как долго мы можем грешить? Как долго мы можем оскорблять Господа, прежде чем Он будет вынужден дать волю своему праведному гневу? Как любящий отец Он до сих пор сдерживался. Но когда Его дети продолжают тяжко грешить, когда они высмеивают Его, Он должен ради их же блага назначить им суровое наказание. Взгляните на своих женщин: они увешаны сверкающими каменьями. Если бы только одна из вас — всего лишь одна — раскаялась в грехе тщеславия, скольких бедняков можно было бы накормить? Взгляните на весь этот шелк, парчу, бархат и бесценное золотое шитье, которым вы украшаете свои бренные тела. Если бы только одна из вас оделась просто, чтобы угодить Господу, то скольких людей это спасло бы от голодной смерти. А вы, мужчины, погрязшие в блуде, содомии, обжорстве и пьянстве, если бы вы довольствовались объятиями только своих жен, то в царстве Всевышнего было бы больше детей. Если бы вы отдали половину со своей тарелки бедняку, то во Флоренции не было бы голодных. Если бы вы отказались от вина, то в городе не было бы пьянок и кровопролитий. А вы, богачи, любители искусства, что копите в своих домах бесполезные вещи, — вы оскорбляете Всевышнего тем, что прославляете земное, а не божественное, тем, что выставляете напоказ свое богатство, тогда как вокруг умирают люди, которым не хватает хлеба и тепла! Отрекитесь от своих земных богатств и вместо них обратитесь к вечным ценностям. Всемогущий Господь! Отврати наши сердца от греха, обрати наши взоры к себе. Избавь нас от муки, которая неминуемо ждет тех, кто попирает Твои законы.
Я взглянула на маму. Она смотрела неподвижно и яростно не на проповедника, а куда-то гораздо дальше, проникая взглядом сквозь каменные стены Сан-Марко.
— Мама, — позвала я, но она меня не слышала. Я попыталась выскользнуть у нее из-под руки, но она сжимала меня все крепче, так что я даже взвизгнула. Она вся обратилась в камень, так и не выпустив меня.
Дзалумма сразу догадалась, что будет дальше, и ласково заговорила с ней скороговоркой, пытаясь убедить, чтобы она отпустила меня, легла на пол и больше ни о чем не думала.
— Вот слово Господа! — с такой силой закричала мама, что я попыталась заткнуть руками уши, но не смогла поднять руки.
Фра Джироламо ее услышал. Услышали прихожане, что были рядом, и вопросительно взглянули в нашу сторону. Отец и Пико взирали на маму с ужасом.
Дзалумма взяла маму за плечи и попыталась пригнуть к полу, но та стояла как скала, голос ее настолько изменился, что я его больше не узнавала.
— Слушайте меня! — властно прозвенели ее слова, так что умолкли все плачущие. — Пламя поглотит его, отрезав от тела руки и ноги, и те провалятся прямо в ад! Его свергнут пятеро обезглавленных!
Мама тяжело навалилась на меня, и я рухнула под ней, столкнувшись с отцом. Падая, я успела заметить, как Пико оттянул его в сторону и потом повалился на холодный твердый мрамор. Я упала на бок, одновременно ударившись головой, плечом и бедром. Передо мной замелькали белые горностаевые и зеленые бархатные пятна, подолы женских юбок и мужские сапоги. Я услышала шепот, восклицания и крики Дзалуммы.
Мама лежала поверх меня, молотя руками и ногами, локоть одной ее руки, скрюченной в спазме, вонзился мне под ребра. Все это время она щелкала зубами, со свистом дыша мне в ухо. Этот звук вселил в меня ужас. Мне ведь следовало придерживать ей голову, чтобы она не прикусила себе язык и не поранилась еще как-то.
Громкие команды Дзалуммы неожиданно обрели четкость.
— Хватайте ее за руки! Вытягивайте!
Сильные пальцы обхватили мои запястья и подняли мне руки над головой. Меня перевернули на спину. Мама громко щелкнула зубами и намертво их сцепила; тем временем она продолжала колотить по мне руками и ногами, одна ее рука прошлась мне под подбородком, глубоко расцарапав.
А у моих ног, пока невидимая, вопила Дзалумма:
— Вытягивайте ее сюда!
Отец сразу пришел в себя. С невесть откуда взявшейся силой он обхватил мои поднятые руки и выволок меня из-под извивающегося тела матери. От этого рывка мучительно заболели ребра.
Но как только я оказалась на свободе, сразу позабыла о боли. Даже не поблагодарив отца, я встала на колени и повернулась к маме. Дзалумма уже успела подползти поближе и навалиться всем телом на ноги хозяйки.
Я отыскала подбитый мехом край материнской накидки и всунула его между ее скрежещущих зубов. Но я опоздала: мама успела прокусить язык, и последствия были ужасны. Кровь была у нее на губах и зубах, щеке и подбородке; белый горностай вокруг лица был в алых пятнах. И хотя я крепко прижала ей голову, она так сильно дергалась в моих руках, что шапка свалилась и закатилась под тело. Вскоре мои пальцы запутались в ее мягких темных волосах. Аккуратные локоны, еще сегодня утром уложенные Дзалуммой, растрепались, превратившись в спутанные пряди.
— Это дьявол!
Вперед выступил какой-то человек — молодой, рыжеволосый, с оспинами на лице. Я узнала в нем священника из Санта-Мария дель Фьоре.
— Я видел, как она проделывала это и раньше, в соборе. Она одержима. Зло, таящееся в ней, не может вытерпеть ее присутствие в Божьем храме.
Ропот вокруг нас перерос в громкий гул, наконец, Савонарола, возвышавшийся над всеми, воскликнул:
— Тихо!
На него обратились все взгляды. Брови его сошлись на переносице в грозной мине возмущения при виде такого оскорбительного действа. Рыжеволосый священник отступил назад и скрылся в толпе; остальные с молчаливой покорностью зашаркали на свои места.
— Дьявол желает только одного — прервать слово Господа, — провозгласил фра Джироламо. — Но мы не должны позволить, чтобы нас отвлекали. Господь победит.
Он сказал бы больше, но тут мой отец шагнул к кафедре. Не сводя взгляда с монаха, он жестом указал на свою жену, повергнутую недугом, и в отчаянии воскликнул:
— Фра Джироламо, помогите ей! Исцелите ее сейчас!
Я все еще удерживала голову мамы, но, как и остальные, следила, затаив дыхание, за настоятелем церкви Сан-Марко.
Он перестал хмуриться и быстро заморгал глазами от неуверенности, но вскоре к нему вернулось чувство полной власти над прихожанами.
— Ей поможет Бог, не я. Служба продолжится. — Отец поник головой, а фра Джироламо подал сигнал графу Пико и двум доминиканским монахам, находившимся среди прихожан.
— Займитесь женщиной, — тихо сказал он. — Отведите ее в ризницу, пусть там меня подождет.
Затем он снова начал громко молиться.
— Дети Всевышнего! Такие недобрые предзнаменования будут только учащаться, до тех пор, пока все в нашем городе не покаются и не обратят свои сердца к Господу. А иначе наступит кара, какой земля еще не видывала…
С этой секунды я слышала лишь его интонации, но смысла сказанного не понимала, так как рядом с мамой возникли два монаха в коричневых сутанах. Руководил ими Пико.
— Фра Доменико, — обратился он к тому, что был повыше, с огромной квадратной головой и взглядом тупицы, — я велю женщинам отпустить мадонну Лукрецию, а затем вы поднимете ее, — он показал на мою маму, все еще содрогающуюся под властью приступа, — и отнесете в ризницу. Фра Марчиано, помогите ему, если понадобится.
Мы с Дзалуммой не сдвинулись с места.
— Мадонну Лукрецию нельзя трогать — это может ей навредить, — возмутилась я.
Фра Доменико молча меня выслушал, после чего спокойно и решительно отвел руки Дзалуммы и, обхватив маму за талию, легко поднял, заставив рабыню отпрянуть. Напрасно я старалась поддерживать голову мамы, когда ее подняли с моих колен. Доменико лишь слегка поморщился от ударов, перекидывая маму на плечо, словно мешок с мукой. Мама продолжала бить его руками и ногами, а он, казалось, ничего не чувствовал.