— А я всегда боялся случайной смерти, — пробормотал Альбино, отвечая уже даже не Франческо, а своим мыслям, — это… ведь это… зачастую главное событие, итог жизни. Оно не должно быть случайным, пусть в нём будет неотвратимость, смысл жизни — сделать эту неотвратимость желанной, именно эта желанность будет означать, что ты жизнь не просто прожил, провёл, протянул во времени, но исчерпал её, выявил в ней высший смысл, осмыслил и постиг её.
Франческо усмехнулся снова.
— И далеко отсюда до бессмертия?
— Всё шутите?
Сверчок покачал головой.
— Мы должны быть готовы к непредсказуемым событиям, которые могут не произойти. Или — не могут произойти?
— Но почему вас так огорчила смерть Донати, Франческо? На вас лица нет…
— Донати? — казалось, Фантони впервые слышал это имя, — ничуть я не огорчен, с чего вы взяли? Собаке — собачья смерть, это говорит закон справедливости. Правда, наш добрый Бог утвердил закон милосердия. Милосердие выше справедливости. Милосердие не пропускает в рай собак, но полагает, что бешеная собака может изменить свою сущность, покаяться. Вы верите в это?
— Да, я видел чёрных людей, во прахе лобызавших ноги Христа, они менялись.
— Знаете, я рад, — продолжал, словно не слыша, Фантони, — что загробная участь темна, как вода в облацех. Эта туманная размытость позволяет предполагать, что милосердие… все-таки справедливо.
— Бунтуете?
Франческо усмехнулся и покачал головой.
— Бунты — дело черни да солдатни городского гарнизона, которой вовремя не заплатили. Если вам сказали, что я солдат, то это ошибка: я бедный музыкант, и мне плохо сегодня. — Он посмотрел в окно пустыми глазами, — знаете, Альбино, в шестнадцатилетней девочке, почти ребенке, я нынче увидал блудницу… Молодая кошечка, которой хочется варенья, но не хочется пачкать лапки. Чистенькая, никаких правил, лишь легкий поверхностный лоск, но какой поток алчбы и желаний под этим хрупким льдом, что трещит при каждом шаге! Никогда ещё не чудилось мне в дыхании почти ребенка более мерзкого смрада распутства. Чтобы затащить её на сеновал, нужен был только сеновал, вот в чём ужас. И не я, так другой. А что удивляться? Сколько честных девиц в одну ночь становились публичными девками! Развращенность — это закон природы? Неужели добродетель — лишь праздничный наряд, который надевают в церковь, а в остальные дни недели сидят у окна и поглядывают на молодых блудников, что проходят мимо, мечтая оказаться в их объятьях? Пятно первородного греха… Разве смыли мы его с человеческого лица за те полторы тысячи лет, что ветшаем вместе с нашими книгами?
Альбино внимательно посмотрел на Фантони. Он говорит о Лауре Четоне?
— Вы нездоровы, Франческо.
Фантони отрицательно покачал головой.
— Сказать, что думаешь, — разве это болезнь?
— Если сказанное греховно — то да.
— О, — рассмеялся Фантони, — праведные мысли… Я их знаю. И Свет во тьме светит, и тьма не объяла его… Это хорошо. Плохо то, что свет предполагает бесконечность тьмы. Вечная тьма, в которой мы бредем и падаем, как упали когда-то…
— Первородный грех не только боль, но и величие, — не согласился Альбино, — если человек пал с высоты, он может на высоту и подняться.
— А… вот в чем моя беда… — вяло пробормотал Франческо, — я боюсь высоты… Не всякой, ибо люблю смотреть на город с колокольни. Я боюсь высоты, с которой люди похожи на муравьев. Хотя… хотел бы… Мой братец Джильберто умел смотреть на реки крови и слез и во всем видеть провидение. Но бедный Бог! Злодеи ненавидят Его за то, что Он мешает им творить зло, добряки — за то, что Он не мешает злодеям творить зло. А самое дурное — зло внутри этой девочки. Она станет шлюхой. И неважно, выйдет ли она замуж, сбежит ли из дома с любовником или отдастся первому встречному… Это тьма, и у неё ведь есть свой, чёрный свет… Тьма не пожрёт свет, но сколькие сломают в этой тьме ноги и души…
— Зачем вы так? — Альбино не мог понять странных слов Фантони, но видел, что тот подлинно выбит из колеи, — всё в мире управляется провидением. Бог карает тех, в ком нет покаяния. Разве вы не видите этого?
— Провидение? — прошептал вдруг Фантони и поморщился, — мне или не хватает истинной веры, или монсеньор епископ Гаэтано что-то перепутал в доктрине…
Альбино скривился. Имя Квирини было ему ненавистно.
— А знал ли он её вообще?
— Он знает её, — резко бросил Фантони и тут же ядовито проронил, — не зря же его учили в Риме…
Альбино покачал головой.
— Ваши мысли — больные мысли. Вы просто утратили Бога, Франческо, вы утратили Бога-Любовь…
Фантони кивнул.
— Да, не выдержал искушения, — усмехнулся Фантони, — оказался слаб…Но меня сильно искусили… Женщины горьки.
— А скажите… Катарина Корсиньяно, — спохватился вдруг Альбино и умолк.
— Катарина? Она башковитая и не блудливая.
— Я не о том. Мессир Монтинеро принуждает ее к замужеству явно против её воли, подеста же просто не видит этого… Почему?
Фантони оторопел.
— Бросьте… Кто её принуждает? Просто любая уважающая себя кошечка должна пошипеть и повыгибать спинку, прежде чем подпустит к себе кота. Лоренцо ей нравится. Я уже к их свадьбе сочинил две величальные, и уверяю вас, не зря трудился. А подеста… Ему надо пятерых девок пристроить… Да и чём Монтинеро-то плох?
— Но он отогнал от неё всех поклонников…
— И правильно сделал, — хмыкнул Франческо.
…Альбино долго не мог забыть разговора с Франческо Фантони, он был растерян, точнее, поколеблен в своей, дававшей ему силы и спасавшей от уныния уверенности, что всё, совершающееся с людьми Марескотти, есть промысел Божий. Франческо насмешливо обронил, что считает случившееся делом рук человеческих, то есть, новым преступлением, новым злом, и недобрый блеск глаз и уверение в достаточных основаниях для такого суждения расстроили Альбино.
Однако чем больше он назавтра, сидя среди библиотечных полок, думал о гибели Карло Донати, тем меньше верил Фантони. Альбино пытался вспомнить, кто и куда выходил из гостей за свадебным столом, но там царило обычное пьяное веселье, и, хоть он прекрасно помнил все эпизоды застолья и речи с пожеланиями счастья молодым, но ничего, что могло бы иметь отношение к гибели Донати, в его памяти не задержалось. Да и не в том было дело, кто и куда отлучался из пиршественного зала. Пожалуй, выходили все. Были минуты, когда он не видал за столом Камилло Тонди, уходил и мессир Арминелли, выскакивал танцевать его сосед, которого ему представили как Рафаэлло Пуччи, только Филиппо Баркальи никуда не уходил, напряженно сидя на углу стола на краешке стула, и не вставал из-за стола епископ Квирини. Но ведь дверь нужника была заперта изнутри, и никто, кроме Донати, не мог этого сделать! И медик тоже признал причиной его смерти остановку сердца. О чём же говорил Франческо? Фантони вроде не имел счетов с Марескотти: гаер никогда ничем не злил мессира Фабио, Альбино даже как-то видел, что они довольно мирно о чем-то шептались. Да, это было в Ашано. Что до его ссор с людьми Марескотти, так там имели место, в общем-то, обычные склоки отпрысков знатных фамилий, весенний гон молодых самцов, распри из-за женского внимания и побед на палио, и у красавца Франческо, удачливого наездника и прекрасного певца и танцора, не могло не быть завистников и недоброжелателей.
Альбино мог лишь подумать, что устами Франческо говорило похмелье, хоть он и не заметил, чтобы тот напился на свадьбе Убертини. Фантони умел лицемерить, и весьма трудно было понять, когда он серьёзен, а когда шутит или кривляется. Впрочем, ему одному в вину это ставить было нельзя: в окружении Петруччи так или иначе лицемерили и притворялись все, все лгали, говорили не то, что думали, делано восхищались, произносили пустые, напыщенные и льстивые речи, клялись в преданности, но всё это было фальшью. Да и само окружение капитана народа пугало. Очень умный Антонио да Венафро был холоднен и бесчувственен, как скелет, подеста Пасквале Корсиньяно заботили только личные дела и стремление свести счёты с врагами, а если верна формулировка: «Скажи мне, кто твой друг, и я тебе скажу, кто ты», то кто такой Пандольфо Петруччи, чьими друзьями и приближенными были негодяй Фабио Марескотти, равнодушный к добру и злу Элиджео Арминелли, прокурор Монтинеро с глазами палача, пьющий, ругающийся, как сапожник, и ведущий абсолютно светский образ жизни монсеньор епископ Квирини, лицемерные льстецы Палески и Убертини? А Козимо Миньявелли, Одантонио Ланди, Теренцио Турамини и Аничетто Грифоли? Кто они, воспитавшие сыновей, способных всемером надругаться над девушкой? Но не только… Лгал и притворялся и Камилло Тонди, стараясь если не попасть в тон творящемуся в окружении Петруччи, то явно нося маску дурака-Панталоне, и только случайно трагические обстоятельства приоткрыли Альбино его подлинное лицо…


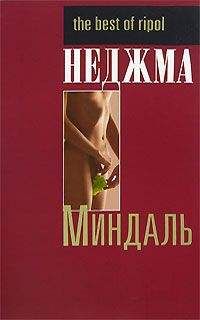


![Анатолий Бергер - Горесть неизреченная [сборник]](https://cdn.my-library.info/books/36975/36975.jpg)