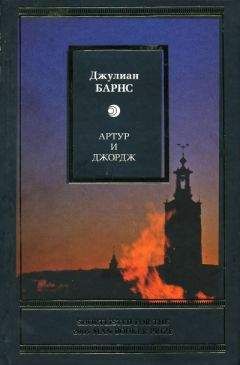— Но, извините, сэр, для чего бирмингемскому солиситору сколачивать шайку местных хулиганов, чтобы резать животных?
— Вы же встречались с ним, Кэмпбелл. И каким он вам показался?
Инспектор взвешивает свои впечатления.
— Умен. Нервен. Сначала хочет понравиться, затем чуть слишком быстро обижается. Он предложил нам кое-какой совет, а мы его словно бы не слишком приветствовали. Рекомендовал нам испробовать ищеек.
— Ищеек? А вы уверены, что не туземных следопытов?
— Нет, сэр, ищеек. Странно одно: слушая его голос, голос образованного человека, юриста, я вдруг поймал себя на мысли, что стоит закрыть глаза, и примешь его за англичанина.
— А если их не закрывать, вы вряд ли приняли бы его за лейб-гвардейца.
— Можно и так выразиться, сэр.
— Да. Похоже, что, по вашему впечатлению — с открытыми или закрытыми глазами, — перед вами был кто-то, кто считает себя превосходящим других. Как бы это выразить. Кто-то, кто считает себя принадлежащим к высшей касте?
— Возможно. Но почему подобному человеку захочется резать животы лошадям? Вместо того чтобы доказать свой ум и превосходство, например, растратив крупную сумму?
— Кто говорит, что он и этим не занялся? Откровенно говоря, Кэмпбелл, «почему» интересует меня куда меньше, чем «как», «когда» и «где».
— Да, сэр. Но если вы просите меня арестовать этого субъекта, то полезно было бы найти ключ к его мотиву.
Энсон не терпел такого рода вопросов; они, по его мнению, чересчур часто примешивались к полицейской работе. Какая-то страсть рыться в побуждениях преступника. От вас требуется поймать его, арестовать, предъявить ему обвинение и упечь его на несколько лет — чем больше, тем веселее. Что за интерес зондировать мыслительные процессы преступника, когда он разряжает в вас свой пистолет или разбивает ваше окно. Главный констебль собирался высказать все это вслух, но тут Кэмпбелл просуфлировал ему:
— В конце концов, мы можем исключить материальную наживу как мотив. Ведь он же не уничтожал свою собственность с целью получения страховых денег.
— Человек, поджигающий овин соседа, поступает так не ради наживы. Он поступает так по злобе. Он поступает так ради удовольствия увидеть огонь в небе и страх на лицах людей. В случае Идалджи возможна глубокая ненависть к животным. Вы, несомненно, займетесь этим. Или же, если время нападений следует какой-то системе, если чаще они приходятся на начало месяца, не исключена связь с ритуальными жертвоприношениями. Быть может, таинственный инструмент, который мы ищем, это ритуальный нож индийского происхождения. Кукри или как там они называются. Отец Идалджи — парс, насколько мне известно. А ведь они поклоняются огню?
Кэмпбелл признал, что профессиональные приемы пока не дали ничего, но у него не было желания смотреть, как они подменяются такого рода рыхлыми догадками. А если парсы поклоняются огню, казалось бы, подозреваемый должен был бы устраивать поджоги?
— Кстати, я не прошу вас арестовать этого юриста.
— Нет, сэр?
— Нет. Я прошу… приказываю вам сосредоточить ваши усилия на нем. Днем ведите незаметное наблюдение за домом священника, пусть за ним следят на пути к станции, отрядите человека в Бирмингем — на случай, если он перекусит с этим Капитаном, а после темноты обеспечьте полную слежку за домом. Позаботьтесь, чтобы он не мог выйти с черного хода с намерением резать и не натолкнулся бы на констебля. А он что-то сделает. Я знаю, он что-то сделает.
Джордж пытается вести свою жизнь нормально: в конце-то концов, это его право как свободнорожденного англичанина. Но это очень трудно, когда ты чувствуешь, что за тобой шпионят; когда темные фигуры вторгаются в пределы земли, принадлежащей дому священника; когда приходится многое скрывать от Мод и даже от матери. Молитвы возносятся отцом с обычной истовостью и повторяются женщинами столь же тревожно. Джордж чувствует, что все больше теряет веру в защиту Господа. На протяжении суток в безопасности он ощущает себя только в тот момент, когда отец запирает дверь спальни. По временам ему хочется отдернуть занавески, распахнуть окно и обрушить сарказмы на прячущихся там наблюдателей. Какое нелепое транжирство денег налогоплательщиков, думает он. К своему удивлению, он обнаруживает, что становится обладателем темперамента. К его дальнейшему удивлению, это помогает ему ощущать себя взрослым. Как-то вечером, когда он, по обыкновению, гуляет по проселкам, а за ним в отдалении следует констебль, Джордж внезапно оборачивается и встает перед своим преследователем, субъектом с лисьим лицом, в твидовом костюме и с общим выражением, наводящим на мысль, что он чувствовал бы себя особенно как дома в пивной самого низкого пошиба.
— Не могу ли я помочь вам найти дорогу? — спрашивает Джордж, с трудом сохраняя вежливый тон.
— Я сам могу о себе позаботиться, спасибо.
— Вы ведь не здешний?
— Из Уолсолла, если хотите знать.
— Но это не дорога в Уолсолл. Почему вы ходите по проселкам Грейт-Уайрли в такое время?
— Я тоже могу задать вам такой же вопрос.
Каков наглец, думает Джордж.
— Вы ходите за мной по указанию инспектора Кэмпбелла. Это совершенно очевидно. Или вы принимаете меня за идиота? Интересно одно: приказал ли вам Кэмпбелл все время быть на виду, в каковом случае ваше поведение равносильно созданию помех на общественных дорогах, или же он инструктировал вас укрываться, в каковом случае вы абсолютно не компетентный констебль в штатском.
Тот лишь ухмыляется.
— А это касается только его и меня, верно?
— Я вот что скажу, любезный. — И гнев теперь могуч, как грех. — Вы и вам подобные обременяете бюджет общества непроизводительными расходами. Вы уже недели и недели шарите по деревне, и вам нечего предъявить, абсолютно нечего.
Констебль только снова ухмыляется.
— Потише, потише, — говорит он.
В этот вечер за ужином священник предлагает Джорджу свозить Мод отдохнуть денек в Аберистуите. Говорит он тоном приказа, но Джордж отказывается наотрез: у него слишком много работы и нет никакого желания отдыхать. И он не сдается, пока к просьбе не присоединяется Мод, а тогда неохотно уступает. Во вторник они уезжают на заре с тем, чтобы вернуться поздно ночью. Солнце сияет; поездка в поезде — все 124 мили от Грейт-Уайрли — проходит приятно и без сучка без задоринки; брат и сестра испытывают непривычное ощущение свободы. Они прогуливаются по набережной, осматривают фасад колледжа и доходят до самого конца мола (за вход 2 пенса). Прекрасный августовский день с легким ветром, но они абсолютно согласны, что не хотят прокатиться по бухте на прогулочном пароходике; не присоединяются они и к согнутым искателям камешков на пляже. Вместо этого они отправляются на трамвае от северного конца променада вверх к Садам На Обрыве, венчающим Холм Конституции. Когда трамвай едет вверх, а потом спускается, перед ними в ретроспективе открывается панорама города и бухты Кардиган. Все, с кем они говорят на этом курорте, очень вежливы, включая полицейского в форме, который рекомендует перекусить в отеле «Бель-Вью» или «Ватерлоо», если они строго соблюдают трезвость. За жареной курицей и яблочным пирогом они разговаривают на безопасные темы — об Орасе, двоюродной бабушке Стоунхем и людях за соседними столиками. Потом они взбираются к замку, который Джордж шутливо называет нарушением Закона о продаже недвижимости, потому что замок состоит только из нескольких разрушенных башен и обломков стен. Прохожий указывает — вон там, прямо слева от Холма Конституции, вершина Сноудона. Мод в восторге, но Джорджу никак не удается различить вершину в такой дали. Мод обещает, что в один прекрасный день купит ему бинокль. В поезде на обратном пути он спрашивает, не управляют ли аберистуитским трамваем те же законы, что и железными дорогами; затем Мод упрашивает Джорджа предложить ей вынести вердикт, как когда-то в классной комнате. Он старается как может, потому что любит сестру, которая против обыкновения выглядит почти жизнерадостно, но его сердце к этому не лежит.
На следующий день на Ньюхолл-стрит приходит открытка. Она полна гнусных выпадов, обвиняющих его в тайных отношениях с какой-то женщиной в Кэнноке: «Сэр. Вы считаете подобающим для человека в вашем положении иметь связь с сестрой —— —— каждую ночь, а она ведь собирается замуж за Фрэнка Смита, социалиста». Надо ли говорить, что он ни о ней, ни об этом Фрэнке никогда не слышал. Он глядит на штемпель: Вулвергемптон 12 ч. 30 мин. авг. 4. 1903 года. Эта отвратительная клевета сочинялась, как раз когда они с Мод садились за столик отеля «Бель-Вью».
Открытка пробуждает в нем зависть к Орасу, теперь беззаботной канцелярской крысе в манчестерском налоговом управлении. Орас словно бы скользит по жизни, не терпя от нее никаких ударов; он живет сегодняшним днем, его честолюбие исчерпывается медленным карабканьем вверх по служебной лестнице; удовлетворение он получает от женского общества, касательно которого не скупится на откровенные намеки. А главное, Орас спасся из Грейт-Уайрли. Джордж, как никогда прежде, чувствует, каким проклятием оборачивается первородство и как тяжка ноша возлагаемых на него ожиданий; и еще — какое проклятие иметь больше ума и меньше самоуверенности, чем его брат. У Ораса есть все основания сомневаться в себе, а он не сомневается. Джордж, несмотря на академические успехи и профессиональную квалификацию, страдает от застенчивости. Сидя за своим столом и объясняя тонкости закона, он умеет быть ясным и даже безапелляционным. Но он лишен способности непринужденно болтать ни о чем; он не умеет находить общий язык с людьми и знает, что, по мнению некоторых, выглядит он странно.