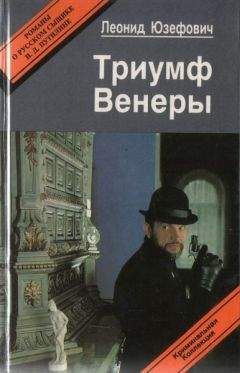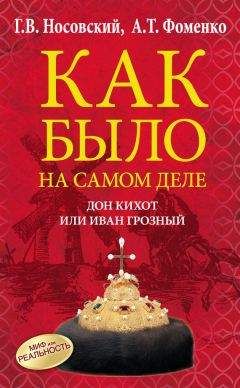На Ивана Дмитриевича она даже не оглянулась, и Стрекалов равнодушно скользнул по нему взглядом. Обломив свои рога о собственную грудь, он гордо нес полегчавшую голову, вел жену за руку, и она не отнимала руки. Даже поручик, хотя недавно готов был ради Ивана Дмитриевича из рая в ад перебежать, на прощание не сказал ему ни слова.
Все трое гуськом втянулись в коридор. Их выгнали, выставили, отбросили за ненадобностью. Но ничто не могло их унизить. С ними и с Боевым было истинное мужество, истинная любовь. Позади оставалась жалкая мышиная возня.
23
На рассвете, вскоре после того, как часы в столовой Путилина-младшего пробили двенадцать раз, отмечая минуту смерти Ивана Дмитриевича, хозяин встал и предложил гостю полюбоваться восходом. Они вышли в сад, где стоял нежный, при безветрии особенно сильный и чистый запах влажной зелени. Выбирая из травы бело-розовые земляничины, раздвигая кусты цветущего шиповника, спустились к Волхову. Солнце еще не взошло. Под белесым небом поверхность реки казалась пустынной и белой, туманом курилась полоска ивняка на противоположном, пойменном берегу. Там же темнел причаленный паром.
Подошли к скамейке у обрыва, которую, как оказалось, поставил здесь сам Иван Дмитриевич. У ног чертили воздух стрижи, тыкались в глину. Под их суетливый гомон Путилин-младший продолжил свой рассказ. Он сообщил, что через неделю его отец был принят Александром II и в приватной беседе напомнил государю латинское изречение: «Благо всех, вот высшая справедливость». Он сказал: «Ваше величество! Избавляясь от соперника, Хотек убедил себя, будто своим преступлением послужит благу Австро-Венгерской империи. Но это изречение истинно лишь в том случае, если человек, сомнительным путем добивающийся общего блага, себя самого исключает из числа тех, кому его поступок пойдет на пользу…»
Пока Иван Дмитриевич ехал из Зимнего дворца домой, по дороге любуясь пожалованным ему орденом, потом с помощью жены разбирал кучу писем с почтительными приглашениями на обед, среди которых было и письмецо от супругов Стрекаловых; словом, пока длился счастливый эпилог, успело взойти солнце, по берегу прогнали лошадей из ночного.
— Но тут совсем не так написано! — Дед вынул из-за пояса книжку «Сорок лет среди убийц и грабителей».
Собеседник взял ее не глядя и тем же небрежным движением отправил с обрыва в реку. Распластавшись в полете, книжка упала плашмя, несколько секунд продержалась на воде, затем вошла в струю, перевернулась и исчезла.
— Одной меньше, — сказал Путилин-младший.
На обратном пути через сад он рассказал, что Хотека выдали австрийским властям, но те, не желая срамиться перед Европой, не стали его судить, а попросту посадили до конца жизни под домашний арест. Однако прозорливость Ивана Дмитриевича имела далеко идущие последствия. Канцлер Горчаков, обещав императору Францу-Иосифу сохранить все происшедшее в секрете, заручился поддержкой Вены и в том же году добился отмены унизительных для России условий Парижского мирного договора, заключенного после поражения в Крымской войне. Теперь русский военный флот вновь появился в Черном море, что прежде было запрещено статьями этого договора.
— Через шесть лет началась война с турками, и без флота мы не могли бы победить, — заключил Путилин-младший. — Родина Боева была освобождена благодаря моему отцу. Для болгар он сделал не меньше, чем Скобелев. Увы, об этом никто не знает…
Шли через сад. Путилин-младший по-хозяйски обломил с яблони засохшую ветку и попросил деда сломить другую, до которой сам не дотягивался. Выяснилось, что яблоню эту посадил Иван Дмитриевич. В годовщину его смерти на письменный стол выставлялись яблоки исключительно с нее — в натуральном виде, моченые, печеные. Гуся ими же набивали. Прошлой осенью приезжал к этому дню из Петербурга литератор Сафонов, но Путилин-младший не только не пригласил его к столу помянуть Ивана Дмитриевича, а попросту прогнал. Да, прогнал, даже лошадей не дал до станции. Пришлось ему пешком топать на железную дорогу. По грязи, в дождь. А тут, между прочим, четыре версты.
— Вот убили эрцгерцога Фердинанда, — вспомнил Путилин-младший, — Один Бог знает, чем это все обернется…
Он как-то вдруг охладел к гостю. Предложения вздремнуть после бессонной ночи не последовало, и дед, подхватив чемодан с изделиями фирмы «Жиллет», отбыл по своему коммивояжерскому маршруту. Через неделю объявили мобилизацию. Однажды дед увидел на дороге офицера верхом на оглушительно стрекочущей мотоциклетке. Тот пролетел мимо в громе и треске, свирепо выпятив нижнюю челюсть, подхваченную ремешком фуражки. Показалось, что человек, способный оседлать такую штуковину, способен и убить, не колеблясь. Призрак европейской войны, маячивший перед Иваном Дмитриевичем, оделся плотью. В другое время рассказ Путилина-младшего был бы иным. Дед это понимал и догадывался, почему. Сафонова не позвали к поминальному столу: в его книжке изложена была другая версия событий, которая Путилина-младшего совершенно не устраивала. Оба они утаивали часть правды.
Установить истину, а тем самым и восстановить справедливость, деду помог случай.
Весной 1917 года, демобилизовавшись по ранению, он с полмесяца прослужил в штабе петроградской милиции, пока не выгнан был за тугоухость — следствие полученной под Перемышлем контузии.
Как-то к нему привели бывшего полицейского агента, разоблаченного соседями. Агенту было лет девяносто. Он вовсе не думал отрицать свое грязное прошлое, напротив, с гордостью сообщил, что состоял доверенным человеком при самом Путилине.
— Как ваша фамилия? — насторожился дед.
— Э-э, много у меня было фамилиев, — отвечал агент. — Какая на год, какая и на неделю. Всех не упомнишь.
— А настоящая-то?
— Не помню, милок.
Дед погрозил ему пальцем.
— Вы это бросьте!
— Ей-Богу, не помню, — сокрушенно покачал агент своей лысой сморщенной головой. — Вот у отца моего, я тебе скажу, настоящая фамилия была такая: Константинов.
Дед уломал начальника, чтобы агента по дряхлости отпустили, сердечно поблагодарил граждан соседей за проявленную бдительность и пошел с Константиновым к нему домой, в нищую каморку под чердаком четырехэтажного доходного дома. Там он узнал немало любопытного об Иване Дмитриевиче вообще и об убийстве князя фон Аренсберга в частности. Но кое-какие пробелы во всей этой таинственной истории пришлось тем не менее заполнять самостоятельно.
24
Часы давно пробили полночь, Хотек не возвращался. В ожидании Кобенцель несколько раз выходил на улицу. Над крышами бушевала фантастическая апрельская метель, и казалось, что Нева шумит со всех сторон, словно посольство расположено было на острове. Невольно явилась мысль о страшных петербургских наводнениях.
Кобенцель вернулся к себе в кабинет, растолкав по дороге задремавшего швейцара. Дневная суета улеглась. Лакеи спали кто где, советники разъехались по домам. Тихо, голос капеллана тоже умолк. В тишине, в пустоте слышнее делалось, как при особенно сильных порывах ветра скребутся по стеклам голые ветви деревьев. Чтобы не клонило в сон, Кобенцель решил выпить чашечку кофе, но не нашел никого, способного исполнить это его желание. С трудом удалось разыскать дежурного курьера, прикорнувшего на диванчике рядом с гробом Людвига. Кобенцель приказал ему отправиться на квартиру к Хотеку, узнать, не поехал ли тот из Миллионной прямо домой. Через полчаса курьер возвратился и доложил, что нет, не приезжал, жена уже беспокоится. Кобенцель еще покружил по зале, стараясь держаться подальше от гроба, наконец понял, что дольше он просто не выдержит этой неизвестности. Почему, собственно, ему нельзя отправиться в Миллионную? В конце концов, как друг покойного он имеет право знать все обстоятельства его смерти. Так и сказать Шувалову с Хотеком, если те будут недовольны визитом. Субординация? Черт с ней! Какая может быть субординация во втором часу пополуночи! Разве не естественно, что он встревожен? Хотека до сих пор нет, хотя обещал скоро быть в посольстве. Да, с ним казачий конвой, но в эту сумасшедшую ночь всякое может приключиться.
Кобенцель пошел сказать кучеру, чтобы подавал экипаж, однако найти его не смог. Он хотел позвать на помощь курьера, который только что ездил на квартиру к Хотеку, но тот уже предусмотрительно перебрался куда-то с диванчика, где его однажды застали, и лег в другом месте. Где, неизвестно.
Одеваясь, Кобенцель прикинул расстояние до дома Людвига. Не так уж далеко, и нет опасности разминуться с Хотеком — дорога одна. Он открыл ящик стола, положил в карман миниатюрный французский пистолет — на тот случай, если нападет Ванька Пупырь. Подвиги этого бандита вызывали в Петербурге столько слухов, что обсуждать их не считалось зазорным и в светских гостиных. Авось при встрече с ним палец не откажется взвести и спустить курок. Пальнуть хотя бы в воздух… Мертвая тишина царила вокруг. Как по заколдованному замку, чья хозяйка уколола себе палец веретеном, Кобенцель прошел из кабинета к парадному, спустился по ступеням и бодро зашагал в сторону Миллионной.