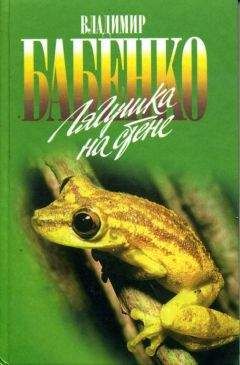И тут же увидел лестницу, ведущую наверх.
Быстро поднявшись, я оказался там, куда стремился. Две стойки для киноаппаратов, самих аппаратов – нет. Пустые боксы, размотанная кинопленка, и повсюду – грязные квадратные отпечатки подошв… Несколько окурков. На столике – забытая пачка сигарет. Еще никогда я так не радовался ни одной находке. «Sport» – прочел я на пачке и открыл. Почти полная. Не хватает трех штук. Я бросил взгляд на пол. Покурили на троих и забыли пачку.
Я разглядел акцизную марку на бежевой пачке, орла. Сунул одну сигарету в губы и только сейчас вспомнил, что спичек нет. Могли бы и спички тоже забыть…
Пачку – в карман. С ящика – крышку.
Вот она!
Я вынул металлический короб с красным крестом на лицевой стороне.
И тут же испытал что-то очень похожее на удовольствие. Странным показалось мне это, потому что один только вид коробки с лекарствами не мог подействовать на меня так. Что-то я упустил, что-то еще помимо находки должно было воздействовать на меня…
И тут я почувствовал, как спина моя, залитая потом от духоты в зале, отходит истомой. Как проливаются на нее прохладные потоки блаженства, и я, не веря ощущениям своим, посмотрел вправо. Там, в глубине затянутой полумраком комнатушки, я увидел затягивающееся вечерней синевой небо Умани…
Не доверяя глазам моим и вспоминая о миражах, преследующих путников в пустыне, я с коробкой в руках подошел к окну.
Я мог бы протиснуться в него без труда, но всего лишь выглянул…
Чистый, лишенный миазмов человеческих испражнений и потных тел воздух, чуть с горчинкой, отдающий дымом, но все-таки – свежий воздух… Я упивался им, как упивается подгоревшей кашей умирающий от голода путник…
Когда первое опьянение, как после первой стопки водки, минуло, я вдруг задрожал мыслями.
Двадцать секунд – чтобы выбраться наружу. Еще десять – бесшумно спуститься на землю… Передо мной расстилался колхозный огород. Бахча, да не беда – в такой темноте на меня просто никто не обратит внимания…
Я вылезаю, ставлю ногу на брус, ограничивающий накат с верхним этажом, приседаю, цепляюсь за него пальцами и… спрыгиваю.
Вокруг – тишина. Неужели…
Я крадусь по бахче, задеваю ногами крупные кавуны. Я сейчас упился бы их соком, если бы не другая жажда – жажда жизни…
Тряхнув головой, я пришел в себя. Я стоял в комнате киномеханика клуба с аптечкой в руках.
Мазурин.
А соблазн так велик…
Опустив коробку на пол, я сорвал пломбу (даже такое здесь требование!) и откинул крышку. Что касается меня, то мне нужен только йод и бинты. В клубе раненых, кажется, нет, так что можно смело их присвоить. Меня всегда удивляло содержимое штатных аптечек для учреждений. Впрочем, это ведь аптечки не для того, чтобы лечить. Любая аптечка предназначена для своевременной доставки больного в больницу.
С полным коробом я выбрался из будки. Торчак встретил меня там как героя Гражданской войны, на что мне было совершенно наплевать.
Управившись с перевязкой Мазурина, я пару раз сбегал в зал для оказания помощи Торчаку, оказывающему помощь больным. Побег от одесских погромов сказался на докторе не самым благоприятным образом – по пути он растерял все свои навыки эскулапа.
– Жить будем, капитан, понял? Не знаю, на хрена я это делаю, ведь ты озабочен выполнением боевой задачи, сводящейся к уничтожению меня как класса, но мне начхать на это, – шептал я на ухо то ли бодрствующему, то ли находящемуся в забытьи чекисту. Как бы то ни было, здоровый глаз у него был закрыт, а второй, навсегда теперь открытый, замотан. – Если ты меня когда-нибудь прикончишь током, утопишь или вырвешь ногти и я сдохну от болевого шока, уйду я на тот свет со спокойной совестью. Потому что всякий раз, когда тебе больно и плохо, я спасал твою никому не нужную жизнь.
Когда он просыпался, я давал ему разжевать две таблетки анальгина из того же кармана, из которого время от времени появлялись бинты и йод. Потрескавшимися губами он принимал их, хрустел, морщился от горечи и кашлял. Но ничем более я не мог ему помочь. Воды нам не давали уже сутки. Дети кричали, бабы подняли крик, но когда одна из них стала стучать кулаками в запертые двери зала, ее без лишних эмоций расстреляли в два автомата прямо на пороге, через дверь. Без криков и ругани. И все стихло.
Я знал – пройдет еще часов двенадцать и, если нас не выпустят или не впустят сюда воздух, мы задохнемся от трупного запаха. Температура в зале была не меньше тридцати днем, вечером опускалась, но тут же надвигалась другая беда – ночные страхи. То и дело раздавались стоны, вскрики и молитвы… А дети были уже слишком слабы, чтобы кричать. Если я не ошибаюсь, Торчак сходил уже к четырем трупам. Столько же посетил и я…
Уже ночью я видел, как один из сельчан – высокий светловолосый парень – поднялся и направился к стене, на которой зияли окошки для показа фильма. Доски мы с Торчаком придавили обратно к стене, но, видимо, наша вылазка не осталась незамеченной. И он решил посмотреть, что там. Заметил я его давно, через час после помещения в клуб. Он не говорил ни слова, ничего не делал, но нервничал… Не дай бог мне когда-нибудь так нервничать. Он не находил себе места, руки его постоянно двигались, даже когда в этом не было необходимости. Я подозревал у него вегетососудистую дистонию, и своим поведением он подтверждал каждый ее признак. И вот он перестал терпеть. Вряд ли – клаустрофобия, скорее нервный срыв. Забыв об осторожности, он отодрал доски и исчез в темноте. И через пять или более минут я услышал за дальней стеной автоматную очередь. Потом еще одну…
Я был последним, кто мог воспользоваться оконцем, открывающим дорогу на бахчу, то есть к свободе.
Часть III
«Уманская яма»
Трое суток. Они решали, что с нами делать, трое суток. На исходе третьего дня ворота распахнулись и немцы, зажимая нос и сыпля проклятья, принялись выгонять людей на улицу. Главная площадь деревни была оцеплена, и даже самому невнимательному было видно, что все пространство разделено на три кольца. Рядом с одним оцеплением стояли грузовики с опущенными бортами. Три или четыре – они выстроились безукоризненно в линию, и я не успел толком подсчитать бамперы.
В десяти метрах от клуба стоял невозмутимый штурмбаннфюрер СС и курил сигарету. Ноги его были широко расставлены, и он заканчивал коридор из автоматчиков, выстроившихся от дверей до площади. Бросая взгляд на появившегося перед ним, он коротко приказывал: «Налево!» или – «Направо!».
Направо уходили, как правило, женщины, дети и старики.
Налево – взрослые мужчины и подростки.
На сортировку ушло не больше десяти минут, после чего группу мужчин числом около семидесяти, в которой находился и я, взяли двойным кольцом оцепления.
– Если кто-то из вас решит совершить побег или просто закричать, я устрою децинацию! – сообщил нам штурмбаннфюрер и кивнул стоящему рядом с ним мужчине. Тот следовал по пятам за офицером, был одет в серый костюм, воротник его белой рубашки украшала серая бабочка. Гардероб завершала шляпа серого цвета последнего фасона – с опущенными полями и широкой шелковой лентой. Услышав родную речь и заметив взгляд хозяина, он проговорил весьма внятно, хотя и с чудовищным немецким акцентом:
– Господин штурмбаннфюрер просить соблюдать порядок. За неповиновение каждый десятый расстрелять.
Им обоим можно было верить. Я машинально посмотрел на столб у сельсовета. На нем, привязанный веревкой за ноги, вниз головой висел тот самый светловолосый парень.
Мазурин держался за мой рукав и выглядел молодцом. Не знаю, где находил он силы для жизни, но, глядя на его лицо, поперек которого легла повязка, я питался от него какой-то внутренней силой. В нем жило неистребимое желание существовать. Трое суток он ничего не говорил, лишь постанывал, и теперь, когда от обезвоживания любой другой с его ранением оставил бы этот мир, чекист стоял на ногах.
Жажда схватила за горло всех. Я чувствовал, что, если нам не позволят напиться, через час движения на жаре мы – трупы. Отравленные трупными миазмами, испарениями испражнений, едва не задохнувшиеся в жаре, люди еле волочили ноги. Матери выносили на руках трупы грудных детей, безумие читал я в глазах их…
Никто не знал, что будет дальше.
Всех, кто оказался по правую руку от штурмбаннфюрера, стали загонять в грузовики. Бабы, крича и путаясь в юбках, падали с бортов, их запихивали силой. Совсем маленьких детей передавали из рук в руки. Через десять минут немцы подняли борта и колонна двинулась прочь из деревни. Вслед за нею урчащей змейкой резво покатили пять или шесть мотоциклов с колясками. Последнее, что я запомнил, были две последние цифры номера замыкавшего колонну грузовика – 52.