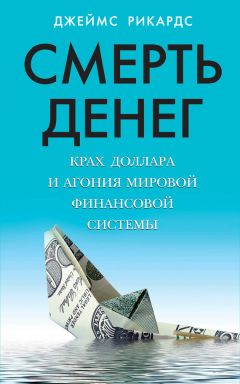После революции Богдо-хан с женой, тоже богиней, целые дни проводили в этой юрте. Здесь они ели, спали, изредка по-старчески любили друг друга. Из дворца их не выселили, но теперь он стал для них слишком велик, шаги чересчур гулким эхом отдавались в его опустевших анфиладах. Несколько лам, завербованных в соглядатаи, передвигались по комнатам, как тени, лишь дважды в году дворец оглашался грохотом сапог и полными жизни голосами – это прибывали с официальным визитом юные члены революционного правительства во главе с Сухэ-Батором. Их сопровождал представитель Коминтерна. В такие дни хозяевам приходилось вылезать наружу, слушать непостижимые речи, принимать ненужные подарки. Дары были тем беднее, чем выше стоял даритель на лестнице власти. Тот, кто находился на самом верху, не дарил ничего. Представитель Коминтерна тоже являлся с пустыми руками, потому что занимал место на другой лестнице, а на этой его ступень была скрыта от посторонних глаз и не шла в расчет. Когда гости уходили, старики снова, как в нору, по-монгольски – нюхт, забивались в свою пятнистую юрту. Только там, за двойной оградой кирпичных и меховых стен, два этих одиноких, больных, избывших свою силу и никому больше не нужных божества могли спрятаться от непонятной новой жизни.
– И кто из них умер первый? – спросила Катя.
Этого Жохов не знал, но ответил уверенно:
– Как всегда. Мужчины умирают раньше.
Доев, она попросилась в туалет. Сортир находился во дворе, уже стемнело, Жохов пошел с ней, несмотря на ее протесты. Каблуком на снегу она отчеркнула расстояние от будки, ближе которого ему подходить запрещалось, и скрылась за дверцей с прорезанным над ней отверстием в виде сердечка. За отсутствием электрического света туда должен был литься дневной или лунный, чтобы в темноте не провалиться в другую дырку, очертаниями сходную с этой. Жохов весь обратился в слух, но запретной черты не переступал.
Затем отправился он, а она ждала его на том же рубеже. Вернулись в дом, связанные этим походом, как общей тайной. Катя что-то поклевала со стола и подошла к макету дворца культуры на угловом столике. Она давно к нему присматривалась. В детстве мать каждое лето отправляла ее в ведомственный пионерлагерь под Воронежем, в соседнем райцентре был почти точно такой же. От его узнаваемости щемило сердце. Вино еще действовало, совсем нетрудно было внушить себе иллюзию, будто дворец настоящий, но кажется игрушечным, потому что уменьшен расстоянием до него. Если прищуриться, пыль в складках рельефа казалась тенями от вечернего солнца.
Макет был выполнен с исключительной подробностью. Это казалось восхитительно-бессмысленным, как рисовое зернышко, на котором маньяк-умелец выгравировал устав ВЛКСМ. В окнах имелись переплеты, в балконных оградках – столбики. Лепной орнамент на фризе, сплетенный из книг, театральных масок, балетных туфель и музыкальных инструментов, просматривался в каждой своей детали, вплоть до колков арфы и завязок на пуантах. Читались даже вывески на первом этаже: «Кино», «Кафе “Аэлита”». Там, где стоял этот дворец в натуральную величину, по вечерам они когда-то вспыхивали бедным советским неоном с увечными от постоянно перегорающих трубок буквами. Та бедность теперь казалась естественной, как отсутствие собственных денег у ребенка.
Она сняла пальцем пыль с карниза, сдула ее и вспомнила, как на крыше девятиэтажного дома через улицу от их собственного вечерами вспыхивал красный неоновый лозунг «Решения XXIII съезда КПСС – в жизнь!». Последнее слово постепенно лишилось всех букв, кроме начальной, но никого, кроме мамы, это не волновало, кощунственный призыв долго светился в ночном небе над Москвой.
Фронтон с гербом СССР венчали три статуи. Наверху стоял сталевар со своей кочергой, похожей на папский посох, по бокам – солдат с автоматом и колхозница с серпом и снопом. Их лица с едва намеченными чертами имели выражение несокрушимого покоя, словно за спинами этих троих теснились легионы им подобных.
Перед дворцом, как перед всеми такими макетами, расстилалась безбрежная эспланада. Своим мажорным простором она, вероятно, радовала членов экспертных комиссий, но в реальности вряд ли существовала. Часть ее занимал квадратный скверик без ограды. Плоские кроны деревьев-недоростков были сплошь белыми, как в зимнем лесу, и одинаковыми, как в регулярном парке. Среди них торчал бюст неизвестного мужчины с двумя крошечными золотыми звездами на пиджаке.
– Я знаю, – сказала Катя, – почему он здесь. При Брежневе всем дважды Героям Социалистического Труда ставили бюст у них на родине.
– На малой родине, – уточнил Жохов.
В точке пересечения двух идущих по диагонали аллей находилась площадка со скошенным постаментом в центре. На нем зеленела миниатюрная модель танка Т-34, развернутого к дворцу задом, к комнате – передом, с маленькой пушечкой. Жохов щелкнул по ней ногтем.
– Памятник в честь Уральского добровольческого танкового корпуса. На Урале этих танков больше, чем было в самом корпусе. После института я по распределению работал в Свердловской области, у нас в городе был точно такой же. В нем жила баба Дуся.
– Прямо в танке?
– Да, как Гаврош в деревянном слоне. Помните?
– Конечно. Он привел туда двоих потерявшихся малышей, ночью они спали в этом слоне и укрывались проволочной сеткой от крыс. Гаврош стащил ее в зверинце. Мне ужасно нравилось это место. Я его без конца перечитывала.
– Что вас тут привлекало?
– Чувство уюта среди опасностей. Девочки любят такие вещи… А почему она жила в танке, эта ваша баба Дуся?
– Жить было негде.
– И все об этом знали?
– Нет, она выходила оттуда только по ночам.
– А днем что делала?
Жохов засмеялся и объяснил, что это миф, местная легенда с антивоенным уклоном. На Урале говорили: «Мы всю неделю работаем на войну, а на себя – в пятницу после обеда».
– Теперь небось рады получить какой-нибудь оборонный заказ, а нету, – заметила Катя.
В углу скверика белела чаша фонтана. В центре кружком стояли три голых мальчика в той популярной у худфондовских скульпторов позе, которая позволяла изобразить их без половых органов, не отступая при этом от реализма. Каждый держал в руках округлую рыбину, наставив ее головой вверх, как автомат при салюте. Из рыбьих ртов должны были извергаться водяные струи, поступающие снизу, по одной общей для человека и рыбы железной кишке.
Вокруг парами гуляли человечки из папье-маше. Жохов двумя пальцами обласкал одну такую парочку, застывшую посреди аллеи в позе полета к счастью.
– Это могли быть мы с вами. Лет двадцать назад. Хотя что я говорю! Вы тогда еще ходили в детский сад.
– Не подлизывайтесь. Я ненамного вас младше.
Тут следовало изумиться, но Жохов ограничился комплиментом и продолжил:
– Например, мы бы познакомились в кино. В таких очагах культуры билеты стоили дешевле, чем в кинотеатрах. Я мог подсесть к вам на вечернем сеансе. Перед началом сеанса увидел вас в фойе и захотел познакомиться.
– Я бы вас прогнала.
– В «Строителе» же не прогнали.
– Сейчас другое дело. Тогда я была девушка гордая.
– А я бы сел на законных основаниях.
– Как это?
– Элементарно. Заметил, где вы сидите, и, пока не потушили свет, успел поменяться билетами с вашей соседкой.
– Чего это она стала с вами меняться?
– У вас места были за двадцать пять копеек, а у меня – за тридцать пять.
– Ого! Откуда такие деньги?
– Повышенная стипендия.
– И какой фильм мы смотрели?
Жохов задумался.
– «Зеркало» Тарковского, – решила за него Катя. – Честно говоря, мне этот фильм не очень понравился, но я считала, что таким девушкам, как я, должны нравиться такие фильмы.
– А мне нравились девушки, которые так считали. К ним-то я и подсаживался.
– Интересно, как вы их обнаруживали?
– Интуиция. В Монголии я бы без нее пропал.
– Почему?
– Такая страна.
На волне этой недоговоренности, за которой угадывалось многое, что ему там пришлось пережить, он приобнял Катю за плечи. У нее мгновенным жаром опахнуло подмышки. Ей всегда нравились ровесники. Общие воспоминания не нужно было наживать в муках совместной жизни, родство душ подтверждалось совместной памятью о чернильницах-непроливашках или пионерских галстуках не из шелка, как носили дети богатых родителей, а из быстро махрящегося сатина. От песни, которую оба услышали и полюбили в седьмом классе, легко увлажнялись не только глаза. Го д назад у нее был недолгий роман с коллегой старше на четырнадцать лет, поэтому с ним так и не удалось получить разрядку. Слово «оргазм» Катя не любила, от него веяло зачитанными до сальной желтизны дефицитными брошюрками времен ее студенчества, где рекомендовалось начинать половую жизнь вместе с началом трудовой деятельности, а сведения об устройстве гениталий перемежались цитатами из Энгельса. Она давно знала про себя, что для полноты ощущений ей нужно иметь с мужчиной общее прошлое, и чем оно протяженнее, тем сильнее и слаще все кончается под ним, на нем или даже вовсе без него.