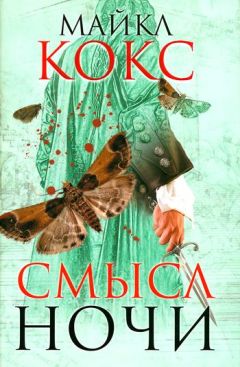Биллик с рессорной двуколкой поджидал меня на остановке портсмутского дилижанса в Уэреме. Сердечно похлопав друг друга по спине при встрече, мы два с лишним часа, к обоюдному нашему удовольствию, ехали в полном молчании, которое нарушало лишь причавкиванье моего спутника, безостановочно жевавшего табак. Наконец мы достигли Сэндчерча.
— Высади меня здесь, Биллик, — велел я, когда двуколка поравнялась с церковью.
Он покатил дальше вверх по склону холма, а я постучал в дверь покосившегося коттеджика сразу за церковным двором.
Дверь открыл Том, с очками в руке и книгой под мышкой.
Он улыбнулся, протянул мне руку, и книга упала на пол.
— Бродяга вернулся к родным пенатам, — промолвил он. — Входи, друг мой, и чувствуй себя как дома.
И ведь она действительно когда-то была моим вторым домом, эта пыльная низкая комната, от пола до потолка заваленная книгами самого разного вида и размера. С детства знакомая обстановка — трехногий комод, подпертый скрипучей стопкой тронутых плесенью кожаных фолиантов, скрещенные удилища над камином, поблекший мраморный бюст Наполеона на полочке у двери — вызывала одновременно сладкое умиление и щемящую боль в сердце. Да и сам Том, со своим длинным морщинистым лицом и большими ушами с торчащими из них седыми пучками шерсти, всколыхнул в душе воспоминания детства.
— Том, — сказал я, — сдается мне, вы лишились последних остатков волос со времени прошлой нашей встречи.
Мы от души рассмеялись, и с молчанием на тот вечер было покончено.
Много часов кряду мы разговаривали о моем житье-бытье на континенте и вспоминали былые дни, но наконец часы пробили полночь, и Том сказал, что возьмет фонарь и проводит меня до дома. Он попрощался со мной у калитки под каштаном, и я вошел в тихий дом.
После девяти лет странствий я наконец снова улегся в собственную постель и мирно заснул под вечную музыку моря, набегающего на берег.
Лето прошло спокойно. Я изо всех сил старался занять себя делами: много читал, выполнял мелкую хозяйственную работу, копошился в саду. Но с наступлением осени я начал испытывать беспокойство и неудовлетворенность. Почти каждый день ко мне заходил Том, и я отчетливо видел, что моя праздность тревожит славного старика.
— Чем собираешься заняться дальше, Нед? — наконец спросил он.
— Полагаю, придется зарабатывать на жизнь собственным трудом, — со вздохом ответил я. — Я истратил почти весь свой капитал, дом разваливается, а теперь еще мистер Мор написал, что перед смертью моя матушка заняла у него сто фунтов и теперь они ему срочно нужны.
— Если у тебя по-прежнему нет на примете ничего определенного, — после паузы промолвил Том, — осмелюсь дать тебе один совет.
Во время путешествий по Леванту я писал Тому о возникшем у меня страстном интересе к истории древних цивилизаций Малой Азии. Получив известие о моем скором возвращении в Англию и не зная, что я подумываю о месте сотрудника Британского музея, он навел предварительные справки относительно возможности моего участия в экспедиции, которая в настоящее время набиралась для раскопок исторических памятников в Нимруде.
— Ты получил бы полезный опыт, Нед, и немного денег. И начал бы делать себе имя в новой, быстро развивающейся области науки.
Я сказал, что это превосходная идея, и горячо поблагодарил старика за ценный совет, хотя на самом деле предложенный план вызывал у меня некоторые сомнения. Возглавлявший экспедицию джентльмен — с ним Том познакомился через одного своего родственника — жил в Оксфорде. Мы договорились, что Том безотлагательно напишет профессору письмо с просьбой принять нас с ним в ближайшее удобное для него время.
Ответа не было несколько недель, но наконец, одним ясным и ветреным осенним утром, Том явился ко мне с сообщением, что от оксфордского профессора С.[90] пришло письмо, где он выражает готовность принять меня в Нью-Колледже, дабы обсудить мою кандидатуру на должность сотрудника экспедиции.
Комнаты профессора были битком набиты слепками и фрагментами барельефов; глиняными таблицами, покрытыми загадочными клинообразными письменами, описанными в отчете Роулинсона о путешествиях по Сусиане и Курдистану;[91] статуэтками мускулистых крылатых быков, высеченными из блестящего черного базальта. Различные карты и схемы валялись повсюду на полу, лежали на столах, свешивались с кресельных спинок, а на мольберте посреди комнаты стояло нечто, поначалу принятое мной за однотонную масляную картину с изображением царя-исполина, увенчанного короной и с заплетенной в косички бородой, который стоит в грозной и величественной позе над простертым ниц пленным врагом или мятежником, всем своим видом являющим рабскую покорность перед могуществом победителя.
При ближайшем рассмотрении это оказалась вовсе не картина, а — как любезно пояснил профессор, заметив мой интерес, — фотогенический рисунок, созданный по методу, изобретенному его ученым коллегой мистером Толботом,[92] специалистом по клинописным текстам. Я просто оцепенел от восхищения, ибо видел перед собой изображение восточного деспота — каменного колосса в песчаной пустыне, — сотворенное не посредством некоего тленного вещества, придуманного и изготовленного человеком, но посредством лучей самого светила вечного. Свет небесный, свет солнца, некогда сиявшего над древним Вавилоном, а ныне рассеивавшего октябрьский сумрак на улицах Оксфорда девятнадцатого века, был здесь пойман и пригвожден к месту, точно попранный царственной пятой раб, и наделен непреходящим постоянством.
Я вхожу в такие подробности, поскольку то был один из важнейших моментов в моей жизни, как станет ясно впоследствии. Прежде я следовал торными стезями знания, берущими начало в тихой гавани гуманитарных наук. Теперь же я осознал, что точные науки, всегда изучавшиеся мной без особого усердия, открывают возможности, о каких мне и не грезилось.
От профессора исходил кисловатый запах старости, слишком заметный в тесном замкнутом пространстве мансардных комнат; вдобавок сей джентльмен, похоже, считал, что проводить собеседование лучше всего стоя вплотную к человеку и разговаривая с ним очень громким голосом. Он тщательно проэкзаменовал меня на предмет моих познаний о Месопотамии и вавилонских династиях, а также по ряду родственных вопросов. Том же тем временем топтался поодаль, с надеждой улыбаясь.
Вполне возможно, я выдержал экзамен. Да нет, не возможно, а точно выдержал — ибо через несколько дней после нашего возвращения в Сэндчерч профессор письменно сообщил о своем желании, чтобы я при первом же удобном случае снова приехал в Оксфорд и познакомился с остальными участниками намеченной экспедиции.
Но к тому времени в сердце моем уже горела новая страсть. Блистательно схваченная и запечатленная игра светотени, увиденная мной на фотогеническом рисунке каменного колосса, пленила мое воображение, и я напрочь отказался от перспективы ковыряться в песках знойной месопотамской пустыни. Кроме того, я устал от путешествий. Мне хотелось прочно обосноваться на одном месте, найти занятие по своему вкусу и овладеть фотографическим искусством, которым, возможно, однажды я стану зарабатывать на жизнь.
Старому Тому я ничего не сказал, но ловко придумал предлог, чтобы не возвращаться в Нью-Колледж, как просил профессор, и умудрился несколько дней безвылазно просидеть дома, симулируя легкую, но временно истощающую силы болезнь.
В первый день моей мнимой болезни с юга пришел проливной дождь и хлестал без устали, покуда на утес не наползла ночная мгла, плотно окутав дом. С утра я удобно устроился в кресле у окна гостиной с видом на море и углубился в чтение букингемовских «Путешествий по Ассирии»[93] в тщетной попытке заглушить укоры совести, вызванные моей ложью славному старине Тому. Но ко времени, когда Бет принесла ланч, Букингем мне уже изрядно наскучил, и я обратился к любимому потрепанному томику донновских проповедей, в который ушел с головой до самого вечера.
После ужина я начал думать о вопросах практического свойства. Чтобы прочно утвердиться на пути успеха, не имея университетской степени, требовалось очень и очень постараться. До того как Том принял деятельное участие в моей судьбе, я намеревался продать дом и перебраться в Лондон, дабы попробовать найти там работу, позволяющую применить на деле мои интеллектуальные способности. Прежде всего я планировал воспользоваться приглашением мистера Брайса Фернивалла и предложить свою кандидатуру на вакансию в отделе печатных изданий Британского музея. Подобная перспектива по-прежнему казалась заманчивой: библиографическая страсть продолжала гореть в моей груди, и представлялось несомненным, что на этом чрезвычайно увлекательном (для меня) поприще я найду столько интересной и полезной для общества работы, что на всю жизнь хватит.