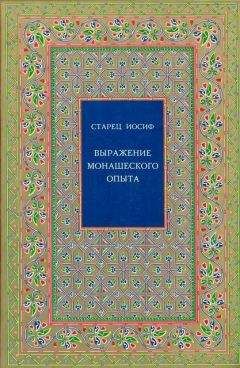Даже теплым июльским вечером под пологом ветвей было прохладно и сумрачно. Жосс легко мог понять, откуда пошла зловещая репутация леса. Пробираясь через чащу, которая становилась все более и более непроходимой, он боролся с настойчивым желанием оглянуться.
Здесь преобладали дубы, смешанные с березами и буками. Жосс предположил, что некоторые из этих исполинов простояли столетия. Их массивные стволы были непомерно широки в обхвате, а ветви, соединяясь высоко над землей, образовывали плотный купол, не пропускавший солнечный свет. Многие деревья были увиты густым плющом, который внизу, у земли, смешивался с ежевикой, орешником, остролистом, боярышником, и все это превращалось в сплошные заросли.
Кое-где Жосс видел следы хорошо проложенных дорог. Возможно, некоторые из них, судя по высоте обочин, были такими же древними, как старые дубы. Были ли это останки дорог, сотворенных римлянами, – прямых, основательных, проложенных на века? Или это то, что осталось от путей железной старины, протоптанных людьми еще до того, как началась история? Людьми, которые знали лес как брата, понимали его природу и могли проникать в самое его сердце; людьми, поклонявшимися дубу как богу, именем которого они творили неописуемое насилие.
А если верить некоторым рассказам, они творили его и по сей день…
Жосс, уже и так исполненный тревоги, решил, что сейчас – не самый подходящий момент, чтобы позволить воображению разгуляться.
Выехав на опушку, он натянул поводья и огляделся по сторонам. Впервые с тех пор, как Жосс оставил солнечный свет внешнего мира, ему попались свидетельства присутствия человека. Не то чтобы их было много – всего лишь горстка убогих, примитивно построенных лачуг, не более чем каркасы из жердей, покрытые ветками и дерном. От дождя в них еще можно спрятаться, а на большее они не годились. Когда-то здесь жгли древесный уголь, но с тех пор прошло изрядно времени: участки земли, на которых разводили костры, уже не были голыми, они покрылись маленькими зелеными ростками – природа начала брать свое.
Жосс спешился, привязал коня и приблизился к самой большой из лачуг. Наклонив голову, он вошел внутрь. Недавно здесь горел костер. Положив руку на угли, Жосс почувствовал слабое тепло. На земляной насыпи лежал тюфяк, набитый папоротником. Причем срезанным совсем недавно.
Это мог быть кто угодно, уверял себя Жосс, садясь на коня. Всякие беглецы и скитальцы знали о старых лачугах. Скорее всего, это лишь простое совпадение, что кто-то пришел сюда и залег на несколько дней, пока тепло, обдумывая свой дальнейший маршрут.
Не обязательно это был Милон Арсийский.
Но, выезжая во внешний мир – трудно сыскать более привлекательную перспективу, сказал себе Жосс, – он не мог удержаться от мысли, что это явно был Милон.
Жосс рассказал аббатисе о том, что задумал. Он заметил, как Элевайз восприняла его слова, еще до того, как она сумела скрыть свои чувства: аббатиса не хотела, чтобы он это делал.
– Не беспокойтесь, – тихо проговорил он. Не дерзко ли с его стороны предполагать, что она волнуется? – Я смогу справиться с мастером Милоном. А он, вполне вероятно, даже не явится! – Жосс попытался рассмеяться.
– Он убийца, – возразила Элевайз так же тихо. Казалось, никто из них не хотел говорить о подобных вещах вслух в священных стенах монастыря. – Он прибегнул к убийству – если, конечно, вы правы. А совершив такое однажды, думаю, он не затруднится совершить это снова.
Жосс удивился ее проницательности: перед ним была монахиня, жизненный опыт которой позволял ей проникнуть в сознание убийцы.
– И в самом деле, аббатиса, часто наблюдалось, что после первого раза убивать становится легче. – Внезапно он осознал, о чем они говорят. – Но мы говорим только об одном убийстве, а ведь их было два!
– Да, были две смерти. – Аббатиса посмотрела на него. – Но мы пока не знаем, что обе жертвы погибли от одной и той же руки.
«Нет, знаем!» – хотелось ему закричать. Жосс сдержал свой порыв.
– Убил он обеих или нет, аббатиса, я твердо решил, что надо предпринять, – заявил он.
– Я знаю. – Она слабо улыбнулась. – И могу понять. Но, сэр Жосс, разрешите мне, по крайней мере, послать с вами несколько братьев-мирян?
– Нет, – тотчас ответил он. Жосс любил действовать в одиночку. – Вы очень добры, аббатиса, но в нашем случае главное – соблюдать тишину. Малейший намек на то, что его ждут, – и Милон удерет.
Элевайз раздраженно фыркнула.
– Я не предлагаю вам отряд сплетничающих монахов, жалующихся на свои больные кости и ноющих, что их вытащили из кроватей, хотя, возможно, некоторым из них не помешало бы принести такую жертву. Нет. Я предлагаю, чтобы вы приняли помощь брата Савла и, может быть, еще одного человека по его выбору. Не сомневайтесь, он знает, кто может подойти.
– Уверен, что так и есть. – Жосс высоко ценил брата Савла. – Но… – Он уже готов был отказаться, когда вдруг ему пришло в голову, что в словах аббатисы есть резон. Милон, испуганный тем, что будет обличен как убийца Гунноры, без колебаний убил во второй раз. Несмотря на то, что женщина, которую он должен был устранить ради своей безопасности, была его собственной женой. При таких обстоятельствах может ли навредить, если во время бодрствования Жосса рядом с ним будет Савл? Нет, Жоссу и впрямь понравилась эта идея.
– Благодарю вас, аббатиса, – сказал он. – Могу я спросить брата Савла, согласен ли он?
Жосс подумал, что сейчас Элевайз снова заговорит о втором брате. Но, словно поняв, что она добилась от Жосса всех возможных уступок, аббатиса просто кивнула и ответила:
– Я сообщу брату Савлу. А сейчас, сэр Жосс, вы должны поесть. Я уже распорядилась, чтобы вам приготовили. По крайней мере, я должна быть уверена, что вы отправились на вашу ночную работу не на пустой желудок.
Милон Арсийский, сын заботливых родителей, баловень матери, которая потворствовала ему больше, чем другим, более достойным сыновьям, пребывал в кошмарном сне.
Этот кошмар не имел ничего общего со страхом перед величественным и зловещим Уилденским лесом, в котором Милон прятался и который грозил свести его с ума – по крайней мере, молодой человек пытался убедить в этом самого себя. И он не имел никакого отношения к необходимости, вставшей перед беглецом: выживать за счет хитрости. Буханка хлеба, украденная там, жирный жареный цыпленок, украденный здесь, яблоко, сорванное, когда никто не смотрел в его сторону, и оказавшееся гнилым лишь наполовину, – все эти ловкачества были для Милона маленькими триумфами, о которых ему нравилось вспоминать.
Довольно часто ему удавалось уверить себя, что он вполне сносно заботится о собственной персоне.
Порой он забывал об истинном кошмаре. Однажды целое утро Милон был счастлив. Лежа на животе над ручьем на краю леса, всматриваясь в чистую прозрачную воду и пытаясь поймать пальцами ускользающую серебряную рыбку, он мысленно вернулся в ту жизнь, к которой привык. А когда встал и очистил свою промокшую, испачканную и сильно изношенную тунику, он уже почти с радостью подумал о том, что будет в обед на столе.
И в тот же миг память проснулась – это было мучительно больно.
Его мозг все чаще отстранялся от боли. Милон ощущал, что не помнить становится все легче и легче. Как приятно – продолжать в мыслях жить на этой чудесной земле, где всегда вот-вот наступит обеденное время и Эланора ждет его.
Эланора.
Рыжие волосы – сильные, непокорные, полные жизни… Как и она сама – страстная, энергичная… Ее любовная пылкость и его любовный жар так совпадали, что вся семья и друзья говорили: какая они прекрасная пара, как подходят друг другу. И тогда они отворачивались и хихикали.
Этот их взаимный физический голод они обнаружили сразу. Но были и другие совпадения, которым понадобилось чуть больше времени, чтобы выйти на поверхность. Например, их общее представление о том, что им должно принадлежать. И если это «что» не преподносилось им на блюдечке, они оба готовы были протянуть руки, чтобы схватить.
Какой ясный ум был у его Эланоры! Какой прекрасной она была сообщницей! Как веселились они вместе! Пока…
Нет.
На этом его мозг переставал работать. Отказывался продолжать воспоминания.
Когда такое случалось, Милон возвращался к своему ручью и занимался чем-нибудь полезным, например, чистил и точил свой нож. Или пробирался в свое укромное место. Но там ему зачастую приходилось переживать новую атаку ужаса.
Однажды ночью, вскоре после того, как он впервые пришел сюда, той ночью, с ясным небом и бриллиантовым светом луны, он увидел поблизости человека. Он подумал, что увидел человека, постоянно поправлял себя Милон. Человека в длинном белом одеянии, который держал в руке нож в виде серпа. Человека, который разговаривал с деревьями.
Прижавшись к стене своего убогого убежища, дрожа, побелев от страха, Милон наблюдал за человеком, мелодично и монотонно говорившим что-то, обходя опушку.

![Мишель Ловрик - Книга из человеческой кожи [HL]](https://cdn.my-library.info/books/187346/187346.jpg)