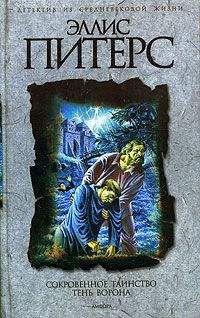Потребовалось некоторое время, прежде чем Кадфаэлю удалось вытащить их все из-под нижнего края серебряного ободка. Всего набралось пять волосков и несколько спутанных коротких обрывков. Волосы оказались длинные, частью каштановые, а частью поседевшие, но главное — слишком длинные для человека с тонзурой, да и вообще для мужской прически, если она не запущенная, как у того, кто вообще не стрижется. Возможно, на посохе были и другие метки: следы крови, кусочки содранной кожи или нитка, вырванная из платья, но, если они и были когда-то, вода их давно смыла. Однако эти волосы, зацепившиеся за острый металлический край, остались на месте, чтобы, словно немые свидетели, дать свои показания.
Кадфаэль легонько провел рукой вдоль серебряного ободка и в трех или четырех местах ощутил точно игольные уколы. В самой большой зазубрине застряли пять драгоценных волосков, выдранных из чьей-то головы. Из головы женщины!
На стук Кадфаэля дверь отворила Диота и, узнав своего посетителя, словно бы заколебалась, отворять ли ее до конца, чтобы впустить его в дом, или же вести разговор, стоя на пороге, чтобы поскорее спровадить незваного гостя. Лицо ее было спокойно, а слова, которыми она встретила монаха, были сказаны скорее терпеливым, чем приветливым тоном. Поколебавшись, она все же покорно впустила Кадфаэля в комнату, и, затворив за собой дверь, он вошел туда вслед за хозяйкой. День клонился к вечеру, но еще не стемнело, да и огонь в глинобитном очаге пылал светло и ярко, почти совсем не дымя.
— Вдова Хэммет! — вымолвил Кадфаэль, когда они очутились лицом к лицу. — Я должен с тобой поговорить кое о чем, имеющем касательство к Ниниану Бэчилеру — человеку, которым, как я знаю, ты очень дорожишь. Он мне доверился, что, как я надеюсь, позволит тебе последовать его примеру. А теперь сядь, пожалуйста, и выслушай, что я тебе скажу! Прошу тебя верить в мое доброе к тебе расположение, ведь я знаю, что твоя совесть чиста и ты ни в чем не виновата, кроме сердечной привязанности к своему питомцу. Богу это давно было известно, прежде чем я нашел подтверждение.
Диота резко отвернулась с таким видом, который скорее говорил о спокойной решимости, чем о страхе. Слова Кадфаэля явно не застали ее врасплох. Она села на скамейку, где во время предыдущего посещения Кадфаэля сидела Санан, и застыла в напряженной позе, поставив ноги ступня к ступне и положив ладони на колени.
— Ты знаешь, где он? — тихо спросила она.
— Не знаю, хотя он готов был мне это сказать. Я разговаривал с ним этой ночью и знаю, что он жив и здоров. Сейчас я хотел поговорить о тебе и о том, что произошло вечером в сочельник, когда умер отец Эйлиот, а ты упала, поскользнувшись на льду.
Диота уже поняла, что Кадфаэлю известно нечто из того, что она хотела скрыть, однако еще не догадалась, что именно он знает. Она промолчала и, пристально следя за его лицом, выжидала, что будет дальше.
— Так вот, о том, как ты упала. Ты ведь не забыла этого. Ты упала на дороге и ударилась головой о крыльцо. Я обрабатывал потом твою рану и вчера снова ее осматривал, она уже зажила, но след от ушиба еще остался, а также царапина посредине. А теперь послушай-ка, что я нашел сегодня в мельничном пруду. Посох отца Эйлиота отнесло течением к другому берегу, а за серебряный ободок с зазубренными краями зацепились пять длинных волосков, похожих на твои. Когда я промывал рану, я мог близко рассмотреть, что на голове у тебя есть оборванные волосы, и сейчас хочу сравнить их с теми, которые нашел.
Диота низко склонила голову и закрыла лицо руками, крепко прижав их к щеке и виску.
— Зачем ты прячешь лицо? — терпеливо спросил Кадфаэль. — На тебе ведь нет греха.
Через некоторое время женщина подняла к нему побелевшее, встревоженное лицо, на котором не было следов слез, и, подперев подбородок руками, твердо взглянула в глаза Кадфаэлю.
— Я была здесь, — проговорила она медленно, — когда сюда приходил тот знатный человек. Я его узнала и поняла, зачем он пришел. Да и что, как не это, могло привести его сюда?
— Действительно, что еще! А когда он ушел, священник набросился на тебя, стал браниться и, наверное, обзывал тебя нехорошими словами: пособницей изменника, лгуньей и обманщицей. Мы уже достаточно хорошо с ним познакомились и знаем, что ему неведома жалость и он не стал бы слушать объяснений и просьб о прощении. Он тебе угрожал? Сказал что-нибудь, как он сперва расправится с твоим питомцем, а затем выгонит тебя с позором из дома?
Женщина гордо вскинула голову и с достоинством сказала:
— Я вскормила Ниниана своей грудью, потому что мое собственное дитя родилось мертвым. Его матушка, спаси господи ее добрую душу, была болезненная женщина. Когда он пришел ко мне, я почувствовала себя так, словно родное дитя попало в беду и просит моей помощи. Неужто же я, по-твоему, стала раздумывать, что скажет и что сделает со мной мой хозяин ?
— Нет, конечно. И я тебе верю, — сказал Кадфаэль. — Выходя в ту ночь из дома священника, ты думала только о Ниниане и о том, как бы заставить отца Эйлиота отказаться от намерения выступить против юноши и выдать его властям. Ты вышла из дома и следила за ним всю дорогу, не так ли? Наверняка ты шла за ним следом. Иначе откуда бы взялись твои волосы на ободке его посоха? Ты шла следом, обратилась к нему с мольбой, и он тебя ударил. Размахнулся посохом и ударил по голове.
— Я вцепилась в его одежду, — сказала Диота с каменным спокойствием, — я ползала перед ним на коленях по мерзлой траве около мельницы, цепляясь мертвой хваткой за подол его рясы. Я уговаривала его и упрашивала, я молила о милосердии, но он был неумолим. Да, он меня ударил. Он не мог стерпеть, что кто-то его держит и мешает ему сделать по-своему. Он пришел в ярость и готов был меня убить на месте, или мне так показалось. Я, как могла, защищалась от его ударов и сама понимала, что он не остановится и будет бить меня, пока я не отстану. Тогда я отпустила его рясу и, бог весть как уж мне удалось, поднялась на ноги и побежала. С тех пор я его живым не видела.
— Ты никого там больше не заметила? Когда ты убежала, он был жив и был там один?
— Я говорю правду, — сказала Диота и потрясла головой. — Я никого не заметила! Кроме нас, там не было ни души, и до самого Форгейта никто не попадался мне на пути. Но конечно, в глазах у меня все было, как в тумане, а в ушах звенело, я была вне себя от отчаяния. Первое, что я тогда заметила, это кровь у себя на лбу, но опомнилась я только в доме, сидя на полу перед очагом. Меня всю трясло от страха, точно в ознобе, я и сама не помню, как бежала. Видно, понеслась, как раненый зверь в свою нору, и больше ничего не помню. Но в одном совершенно уверена — в том, что никого не встретила на пути. Потому что при встрече мне пришлось бы взять себя в руки, перейти на спокойный шаг, как полагается женщине, которая в здравом уме, и даже поздороваться со встречными. Когда надо, тогда все сделаешь! Нет, после того как я от него убежала, я больше ничего не могу вспомнить. Всю ночь я в страхе ждала его возвращения, зная, что он меня не пощадит, и думая, что с Нинианом он, верно, уже расправился. Тогда я считала, что мы с ним оба пропали и что вообще все пропало!
— А он не пришел, — сказал Кадфаэль.
— Нет, не пришел. Я промыла рану на голове, остановила кровь и потом ждала уже без всякой надежды, а он так и не пришел. От этого мне не стало легче. Сначала я боялась его возвращения, а тут уже стала бояться за него: что он там делает всю ночь на морозе? Даже если бы он отправился в замок за стражей, он все равно не должен был так долго пропадать. А он все не возвращался! Можешь себе вообразить, какую ночь я провела одна в этом доме, ни на миг не сомкнув глаз!
— Наверное, хуже всего был для тебя страх, что он все-таки встретился с Нинианом возле мельницы после того, как ты убежала, и пострадал от рук Ниниана, — тихо сказал за нее Кадфаэль.
— Да, — только и выдохнула она шепотом, передернувшись от озноба. — Могло и так случиться. Когда на такого храброго мальчика и такие нападки с обвинениями, а может быть, еще и с рукоприкладством!.. Могло быть и так… Благодарение богу, что этого не случилось!
— А наутро ? Ты ведь не могла оставить все, как есть, чтобы кто-то другой вместо тебя поднял тревогу. Тогда ты пошла в церковь.
— И рассказала эту историю наполовину, — докончила Диота с вымученной усмешкой, похожей на гримасу страдания, — А что мне еще оставалось?
— И пока мы бродили по окрестности в поисках священника, Ниниан оставался с тобой и, наверное, рассказал тебе, как сам провел эту ночь, ничего не подозревая о том, что случилось на мельнице после его ухода. А ты, наверное, рассказала ему конец своей истории. Но ни один из вас не мог пролить свет на гибель священника.
— Это правда, — сказала Диота, — Клянусь, что это правда! Не могли ни тогда, ни после. И что же ты надумал насчет меня?
— Начет тебя? Да ничего особенного! Делай то, что тебе сказал аббат Радульфус, — оставайся в доме и содержи его в порядке к приезду нового священника, твердо уповая на слово аббата, мол, раз сама Церковь привезла тебя сюда, то тебя и впредь не бросят на произвол судьбы. Я вынужден оставить за собой право распоряжаться сведениями, которые имею, но постараюсь не нанести тебе вред. А кроме того, я никому не собираюсь ничего рассказывать, пока не разберусь в этой истории получше. Жаль, что ты не смогла мне в этом по-настоящему помочь. Но и это не беда. Истина существует, и она всегда выйдет наружу, а уж каким способом это случится — посмотрим.