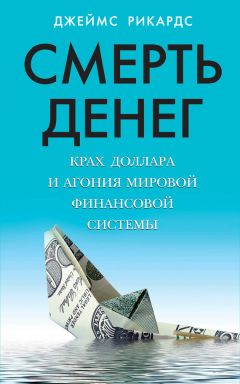Он понюхал винную муть в одном из фужеров, подошел к дивану и грубо откинул постель к стене. Обнажилась светлая обивка с темнеющим посередине белковым пятном в форме облака на китайских картинках. Катя похолодела от стыда. Второй презерватив порвался, как советский, хотя изготовлен был в не знавшем социализма Гонконге.
– Хоть бы что-нибудь подстелили… Водите сюда мужиков, поите их, весь дом загадили. Какого хера?
– Сережа, скажи ему! – потребовала Катя. – Он все-таки твой брат.
– Чего-о? – изумился Борис.
– Не знаешь, значит, – констатировал Жохов. – Понятно.
– Что тебе понятно?
– Я думал, ты про меня знаешь. Мне-то отец много про тебя рассказывал. Мы с ним частенько встречались, когда ты в армии служил. Под Улан-Удэ, кажется. У тебя там дружок был из кадровых, он вашему замполиту голову проломил. Было такое?
Борис потрясенно кивнул. Успокоившись, Жохов рассказал, что у них в батарее тоже замполит был – песня. Жена его пьяного домой не пускала, так он, если выпьет, ходил спать в караульное помещение. Придет и начнет придираться: то не так, это не по уставу. Потом – хоп, и нету его. Только сапоги торчат, хромовые среди кирзовых. Завалился с отдыхающей сменой.
– Упал? – участливо спросила блондинка.
Никто ей не ответил.
– Когда бабушка умерла, – вернулся Жохов к семейной теме, – на кладбище я был, а на поминки к вам домой не пошел, естественно. Мы с отцом отдельно ее помянули. Отец сильно на тебя обижался, что ты на похороны не приехал.
– Меня из части не отпустили.
– Мог и без спросу. Чего бы они тебе сделали?
Он протянул Борису пачку «Магны». Тот покачал головой.
– В прошлом году, – закуривая, вспомнил Жохов, – у меня было воспаление легких, врачи велели бросить курить, а то всякое может случиться. Выхожу я после рентгена из поликлиники, достаю сигарету. Кручу ее в пальцах и думаю: если только эта маленькая белая палочка отделяет меня от смерти, то стоит ли жить?
Катя за рукав потянула его к выходу. Он высвободился.
– С какой стати? У нас такие же права, как у них.
– По-твоему, должны уйти мы? – осведомился Борис.
– Никто вас не гонит. Тут две комнаты, места всем хватит.
В тишине слышно стало, как потрескивают обои на выстывающих стенах. Блондинка запахнула свою дубленку и на всякий случай улыбалась всем по очереди, не понимая, видимо, что здесь происходит.
– Ладно, – вздохнул Борис, – давайте знакомиться. Это Виржини, она из Франции.
Жохов представился без фамилии, как на встрече с Денисом.
– Я хотел уступить тебе хату и ничего не говорить, – сказал он тоном оскорбленного великодушия. – А теперь извини, сам напросился.
Борис попросил его помочь загнать машину во двор. Виржини вышла вместе с ними, но вернулась раньше, неся в обеих руках гроздья разноцветных, по-разному шелестящих пакетов. Катя едва успела убрать постель и прикрыть пятно на диване газетой «Сокровища и клады».
Во дворе мягко запел немецкий мотор, снег захрустел под колесами вползающей в ворота машины. Слышно было, как Жохов командует:
– Еще, еще на меня! Так-так-так… Оп! Хорош.
Виржини глазами указала за окно.
– Нет? Не жена?
– Нет. А вы?
– Я тоже нет.
Обе рассмеялись, Виржини принялась выкладывать на стол нарядные свертки, баночки, коробочки. Катя почувствовала себя дикаркой, считавшей самым изысканным лакомством жареную саранчу и попавшей в Елисеевский магазин. Пирожные в прозрачных коконах и лукошко с клубникой под целлофановым флером тонули среди чего-то нездешнего, привезенного из краев, где каждый день – праздник. Обрубок сырокопченой колбасы смотрелся тут камнем среди цветов.
– Девочкой я жила в Дегтярном переулке, в самом центре Москвы, – сказала Катя, понимая, что говорить об этом не нужно, но не видя другого способа сразу обозначить свое место в мире. – Я знала, что СССР – лучшая в мире страна, Москва – лучший город в СССР, а улица Горького – лучшая улица в Москве. Дегтярный переулок выходил на улицу Горького. Я думала: какая же я счастливая, что живу в таком месте! Там был большой «Гастроном» на углу Тверского бульвара, однажды я увидела, что перед ним стоят иностранные туристы, указывают пальцами в витрину и смеются. В витрине были выставлены огромные круглые банки с сельдью. Больше – ничего, только эти банки. Мне было лет десять, но я сразу поняла, что они смеются надо мной, над моим счастьем.
На крыльце затопали, сбивая снег с ботинок. Вошел Жохов и с порога стал кричать, что сидеть дома в такую погоду – преступление. Катя шепнула ему, что они столько всего вкусного навезли, а им совершенно нечем их угостить. Она возьмет судок и сходит в «Строитель». Суп брать не будет, только второе.
– Тогда возьми заодно мою порцию, у меня за обед заплачено, – пожалел Жохов, что добро пропадает. – Четырнадцатый стол. Скажешь официантке, она знает.
Катя ушла, не дождавшись денег, которые он собирался ей дать, но слишком долго нашаривал по карманам. Растопили печку, Борис принес из машины дипломат, выставил бутылку «Белой лошади».
– Странно все-таки, – покрутил он головой, разливая виски, – что я ничего о тебе не знаю. Отец никаких тайн хранить не умел, особенно от матери, а она бы мне рассказала. Она мне все рассказывала. Когда у нее нашли рак, я первый узнал. Мать взяла с меня честное слово, что не скажу отцу, он еще полгода ни о чем не догадывался. Отец, конечно, законченный эгоист, но она его любила. Он ее – тоже. Если у него что-то бывало на стороне, сам ей потом признавался, каялся, и она его прощала. Понимала, что все это несерьезно. Что-то серьезное было у него только с Элкой Давыдовой, они в одном классе учились. Мать всю жизнь ее терпеть не могла.
Жохов нахмурился:
– Какая она тебе Элка!
– Извини, отец ее так называл. Раньше она ему иногда звонила.
– Мою мать зовут Элла Николаевна.
– Она же Абрамовна!
– Это по отчиму, – молниеносно отреагировал Жохов. – А по отцу и по паспорту – Николаевна.
– Но она мне сама говорила: позови к телефону папу, это Элла Абрамовна.
– Она так представлялась, потому что не хотела обижать отчима. Отличный был мужик, хотя и Абрам. Он мне рассказывал, – воспроизвел Жохов жалобу Марика, остро переживавшего свое еврейство, – что первый раз женился на еврейке. Соседи сказали: евреи всегда женятся на своих. Второй раз женился на моей матери. Она чистокровная русачка, но соседи и тут сразу все поняли: ага, мол, евреи любят русских женщин. Он мне говорил: «Как ни поступи, Сережа, все равно получается, что поступаешь как еврей».
– Уезжать не собираешься? – спросил Борис, наливая по второй.
– Куда?
– Хотя бы в Израиль.
– Я же тебе говорю, у меня мать – русская. У нее только отчим еврей.
– Можно и по отцу. Там таких, как мы, принимают.
Это была интересная новость. Прясло в углу, иконы в серванте и сама изба, в которой они сидели, никак не наводили на мысль о том, что хозяин – еврей, но Жохов не слишком удивился. Марик, например, в подпитии обожал петь русские народные песни.
Виржини от виски отказалась и попросила чаю. Жохов мечтательно поцокал языком.
– Чай! Знаете, как я летом готовлю себе чай? Я встаю рано утром. Рано-рано, когда еще не поют птицы. Босой, я иду на берег лесного озера и серебряной ложечкой собираю росу с кувшинок. Дома сажусь и жду, пока зазвонят к заутрене. С первым ударом колокола развожу огонь в печи, ставлю чайник.
– Вы человек православный? – уважительно спросила Виржини.
Бабушка крестила Жохова, когда он уже ходил в первый класс. Ей приснилось, будто идет она по лесной поляне, там множество детей, они смеются, играют в мяч, солнце светит, а внука нигде нет. Она идет дальше, входит в лес и видит, что под елками, в темноте, в сырости, он сидит один и плачет. Бабушка поняла, что дети не хотят с ним играть, потому что они все крещеные, а Сереженька – нет. Тайком от отца, состоявшего в заводском парткоме, она отвела его в церковь и окрестила.
– Я – дзэн-буддист, – ответил Жохов. – Мое кредо: все подвергай сомнению. Встретишь Будду – убей Будду.
Он чихнул.
– Будьте добры, – сказала ему Виржини, беря чайник и уходя с ним в кухню.
– Никак не может запомнить, что нужно говорить, если при ней чихают, – объяснил Борис.
– Где ты ее подцепил?
– По работе знакомы. Я тут сколотил команду, создаем с французами совместное рекламное агентство.
– Они случайно не интересуются никелем? – оживился Жохов.
– У тебя есть никель?
– На тридцать процентов дешевле, чем на Лондонской бирже. Я выхожу на непосредственного производителя, директор комбината – мой однокурсник.
– Еще что есть?
Караваевский список остался в сумке, Жохов по памяти назвал несколько позиций. Борис записал все в книжечку.
– Приеду в Москву, проконсультируюсь.
– Только давай пооперативнее, а то уйдет. Эти вещи быстро уходят.
После третьей рюмки выяснили, кто где живет в Москве. Борис жил на Ленинградском проспекте, возле фонда Горбачева. Жохов сказал, что Горбачев – современный Данко, неблагодарные люди растоптали его сердце, осветившее им дорогу к свободе, и рассыпалось оно голубыми искрами по степи.