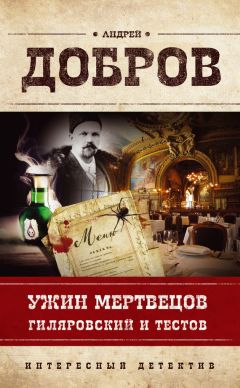Дверь распахнулась — Чепурнин просто пнул ее ногой, так как в одной руке он держал бутылку шампанского, а второй поддерживал за талию Горна. Оба были совершенно пьяны. Пенсне криво сидело на носу Егора Львовича.
— Здорово! А кто тут у нас еще? Ба! Репортер! И ты тут? — весело закричал Чепурнин, выронил бутылку, тут же залившую его ботинки пеной.
— Вот черт!
Патрикеев поморщился:
— Где это вы так успели нарезаться?
— В… — Горн икнул, — в «Эрмитаже».
— Хороши поминки! — недовольно проворчал Патрикеев.
Чепурнин усадил Горна на стул, а сам пошел вокруг стола в сторону портрета Глаши.
— О! — воскликнул он, остановился, достал окурок сигары и долго прикуривал от спичек, которые не загорались, сколько он ими ни чиркал. — Спички у тебя все-таки дрянь, Матюша! Это ж твои!
Он кинул на стол коробок. Патрикеев не двинулся, а я взял спички и посмотрел на этикетку. Там было написано: «Фабрика М. П. Патрикеева».
— Правда, ваши.
Чепурнин вынул изо рта окурок и с досадой посмотрел на него. Потом нагнулся над портретом.
— Не трожь! — взревел Патрикеев.
Но Чепурнин его не слушал. Он поднес окурок к губам Глафиры.
— Ну, — сказал он насмешливо. — Ты ведь горячая штучка! Интересно, можно об тебя сигары прикуривать?
— Егор! — Матвей Петрович вскочил. — Стой! Зашибу!
— Дурак ты, — сказал Горн. — Никак не смирится. Да и я не смирюсь. Такая была…
Чепурнин подняв бровь, рассматривая Патрикеева, потом выпрямился и вытянул вперед руку с окурком:
— Матюша! Ты что? Я же шучу!
Он отошел от портрета и плюхнулся на стул.
— Я же от ревности, понимаешь? Мщу портрету за то, что оригинал выбрал тебя, а не меня. Или вот… его! — Он ткнул окурком в Горна, а потом громко хлопнул по столу и закричал: — Человек! Человек!
В двери показался официант.
— Огня мне принеси! — приказал Чепурнин.
Патрикеев медленно сел. Он был все еще взбешен, но постепенно отходил, краски возвращались на его лицо.
Снова вошел официант, который нес большую сигарную пепельницу и зажженную свечу. Поставив свечу перед Чепурниным, он спросил у Патрикеева:
— Прикажете подавать?
Матвей Петрович медленно кивнул.
— И бутылку арманьяка, братец, захвати! — буркнул Чепурнин, а потом начал прикуривать от свечки. — Утопим парочку моряков, а?
Он подмигнул мне, блеснув стеклышком пенсне, и выпустил большой клуб дыма.
— Надо выпить, надо, — сказал Горн, провожая взглядом официанта. — Внутри все горит…
— А давно хотел спросить тебя, Павел Иванович, — сказал Чепурнин. — С чего это ты так пьешь? Ведь ты пьешь как лошадь! А? С горя небось? Так только с горя пьют. Что у тебя за горе?
Горн поднял взгляд, и я вдруг увидел в нем мутную тяжелую злость.
— С горя, Егор, с горя, — сказал он и икнул.
— Оставь ты его, — попросил Патрикеев.
— Ничто! — огрызнулся Чепурнин. — Ничто! Ему долго не прожить с таким-то пьянством. Пусть уж покается. Да ты, Паша, и в церковь-то, наверное, никогда не ходишь? А почему? Только не говори, что ты, как и я, в бога не веруешь! Ты же немец, хоть и во втором поколении. Киндер, кюхе, кирхе! Дети, кухня и церковь!
Горн отрицательно помотал головой:
— Я не немец, Егор, перестань. И вообще это про женщин сказано.
— Кюхе у тебя есть, да только ты варишь там ядовитые блюда.
— Лекарства и средства! — поднял палец Горн и снова икнул.
— Но в церковь-то не ходишь?
— Нет.
— А-а-а! Вот видишь, потому что ты боишься бога, Паша. А чего боишься? Ну, а вы, Гиляровский, — обратился ко мне Чепурнин. — Пьете ли вы? Или так пришли? Посидеть, послушать, а потом и пропечатать все в газетенке?
— А вы, Егор Львович? — спросил я в ответ.
— Я пью редко, да метко, — ответил тот. — Сегодня, например, провожаю любовь… Думал, свою, а оказалось — его. — Он указал на Патрикеева.
Уронив голову на кулак Матвей Петрович смотрел на лицо Глаши и, казалось, не замечал больше выпадов Чепурнина.
Вошли два официанта. Один, с тележкой, стал расставлять блюда, а второй штопором открыл пузатую бутылочку арманьяка.
— Спасибо, — как бы очнувшись, сказал им Патрикеев. — Идите, мы дальше сами.
Официанты вышли. Патрикеев разлил арманьяк по рюмкам и взял свою. Он встал. За ним встал и я. Чепурнин, покривлявшись, тоже встал, а Горн схватил рюмку и тут же выпил. Но на него уже не обращали внимания.
— Пью за тебя, Глаша, — сказал Матвей Петрович и замолк. Он стоял — большой, сгорбившийся, словно придавленный потолком. Потом вздохнул и выпил в один глоток. Я — следом за ним. Чепурнин же стоял нетвердо, покачиваясь, держась одной рукой за спинку стула. Наконец он заговорил:
— А вот если бы ты, Матюша, тогда помер от яда, то и не пил бы сейчас за Глашу. Уже сейчас бы встретил ее там… Если, конечно, там что-то существует. В чем ни наука, ни я совершенно не уверены. Вот ведь парадокс! — повернулся он к нам, указывая на портрет. — Мы тут лицезреем это прекрасное лицо, а ведь в данный момент ее, должно быть, уже глодают черви. Нет, вы только представьте себе эту картину! Черви в носу, черви в глазах, все шевелится…
— Дурак! — крикнул Горн, поднимая голову. — Что ты такое говоришь!
И он снова икнул, отчего вся его злость тут же стала комичной.
— Да ладно! Я знаю, Матюша, тебе противно, — продолжал Горн, — Ты человек не рассудочный, как я, а чувственный. Да-с… И, похоже, верующий. Тебе горько! А кому же горше, тебе или мне? Ты-то думаешь, что сия прекрасная персона на небесах вкушает амброзию с ангелами. Потому как ты веришь в это. А я… Я материалист! Я человек чистого разума. И я, увы, знаю — черви! Черви и плоть!
Он выпил свою рюмку и закричал в лицо Патрикееву:
— Ты понимаешь?! Понимаешь, Матвей?! Как мне сейчас? Каково? Когда у меня перед глазами эта картина — ее лицо в гробу и ползающие по нему червяки!
Он стал растирать кулаком слезы, потекшие из глаз.
— Я понимаю, Егор, — тихо сказал Патрикеев. — Я тебя ненавижу, но понимаю. Мне, наверное, действительно должно быть легче, чем тебе. Ведь если я помру, то встречу и Глашу и всех… А ты будешь просто гнить в могиле — один-одинешенек. И с твоей точки зрения чистого материализма, наверное, все так и есть. Но только мне не легче от этого. Нисколько.
Он взял бутылку.
— Я люблю этот портрет, — сказал он, наливая себе. — Если вы посмотрите на него внимательно, то увидите — Глаша тут не улыбается, нет. Но ты этого даже не замечаешь. Потому что — глаза… Какие у нее счастливые глаза! А знаете почему? Это был первый день, когда она ответила на мою любовь. Мы были на бегах. Видите — вон там — часы? Это часы ипподрома. Сколько на них?
— Три четверти пятого, — сказал я.
— Не четвертого? — спросил Горн, щурясь.
Чепурнин мельком взглянул на портрет и уставился в стол.
— Три четверти пятого, точно, Владимир Алексеевич, — сказал Патрикеев. — Я до минуты знаю, когда стал счастлив. И до минуты, когда стал самым несчастным. Выпьем за то, чтобы никогда не знать срока своего горя.
— Дай мне бутылку, — сказал вдруг Горн.
— Зачем? — спросил Патрикеев.
— Ты наливаешь слишком помалу. Надо так. Давайте сюда рюмки!
Мы пододвинули ему свои рюмки, и он быстро налил их под самый обрез.
— Вот, — ухмыльнулся аптекарь. — Еще могу… А!
Но тут он так неудачно махнул бутылкой, что свалил все три рюмки на стол и арманьяк начал растекаться по скатерти.
— Парррдон! — смутился аптекарь и икнул. — Ну-ка, еще раз.
Он снова составил три рюмки.
— Брось, — сказал Чепурнин. — Давай лучше я!
— Нет! — ответил Горн и снова разлил арманьяк. — Увы, с этой бутылкой все.
Он бросил пустую бутылку под стол. Чепурнин взял свою рюмку и посмотрел ее на просвет:
— Поздно уже, Матюша, плакать. Черт с ними, с поминками. Поехали лучше в «Яр» или «Стрельну».
— Зачем? — хмуро спросил Патрикеев.
— Там — живые, — ответил Чепурнин.
Горн пододвинул ко мне рюмку, а другую взял себе.
— Выпьем на дорожку и поедем, — сказал Чепурнин, поправляя пенсне.
— Нет, — отрезал Патрикеев. — Вы, если хотите, езжайте, а я тут посижу — попрощаюсь.
Он кивнул в сторону портрета.
— И я не поеду, — сказал Горн. — Надоели вы мне. До смерти надоели. Выпью и — домой. А вы, Гиляровский?
— А я и пить не буду.
— Почему? — спросил аптекарь.
— Не хочу, — ответил я, отодвинул рюмку и скрестил руки на груди.
— Как хотите, — ответил Горн и поднес рюмку к губам.
В этот момент дверь распахнулась, и в зал ввалился Никифор Сергеевич Ветошников в сопровождении трех городовых в мокрых шинелях.
— Добрый вечер честной компании! — сказал он. — Прошу оставаться на своих местах. Здравствуйте, Владимир Алексеевич, не ожидал вас тут увидеть.