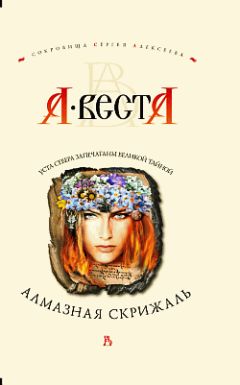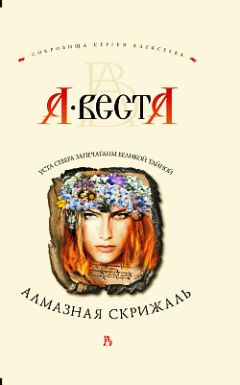Слова книги стали трудноразличимы. Так бывало всегда, когда что-то мешало сосредоточиться. За озером возник едва различимый вначале звук мотора. Отец Гурий быстро убрал Книгу в стенной тайник и заложил приготовленным кирпичом. В лодке у берега копошился Герасим. Отец Гурий почти вприпрыжку сбежал с холма, взял паренька за руки, заглянул в лицо и трижды поцеловал в обветренные щеки. Герасим шмыгнул носом и отвел глаза, обмахнув ресницы выцветшей до зелени кепкой.
Поздним вечером после ухи и чая Отец Гурий рассказал Герасиму о Книге. Мельком взглянув на блеклые страницы, Герасим углубился в свое ремесло. На этот раз он вырезал деревянную ложечку из липовой болванки.
— Ничо, дельна книга-то… Только не написано, чо делать, чтобы земля не рухнула, — задумчиво обронил он.
Наутро они разобрали найденный в подземелье рюкзак. Герасим советовал отправить его в район, куда раз в неделю ходила машина, пусть милиция разбирается. В рюкзаке пластами лежали скомканные вещи, сопревшие, покрытые пушистой плесенью, в кармашке был спрятан покоробившийся бумажник с парой крупных купюр, адресами, карточками и календариком за прошлый год. Герасим вытащил из бумажника за уголок фотографию девушки, тревожно красивой, как осенний закат.
— Вот это краля, неча сказать… А энто чо за зверь?
На дне рюкзака лежал непромокаемый сверток. Герасим торопливо растормошил его, и на свет явилась роскошная, видимо, очень дорогая фотокамера. Герасим поглаживал ее, как живую. Глаза его маслянисто блестели, губы оттопырились. Пришелец из другого мира милостиво дозволял прикасаться к себе.
— Может, мешок гопники бросили, лагерников-то много в лесах. Вот они какого-то туриста на озере охапили, да побоялись идти с рюкзаком в город, бросили в нору до весны… Кругом нас лагеря понастроены, — засыпая, фантазировал Герасим.
Отец Гурий помрачнел, как от далекого страшного воспоминания.
Вечером следующего Герасим уехал, пообещав сдать рюкзак в милицию. Отец Гурий проводил его взглядом и перекрестил озеро.
Вернувшись в храм, он раскрыл свою Книгу. «…О, пространный Град, твое крушение близко…» — складывал он глаголы страшного пророчества. Но как солнце после бури, сквозь грозовой мрак пробивались и лучи надежды: — «Русь, матерь Слова, стоит на Камене несекомом, и воскреснет она в сиянии Славы, егда изыдет песье иго…»
Отец Гурий очнулся ближе к рассвету. В подвале под храмом громко стукнул камень. Затаив дыхание, он вслушался в тишину ночи и ясно услышал под полом тяжелое дыхание и грузные шаги. Отец Гурий спрятал книгу в тайник и загасил лампадку. Из щели пролома пробивался качающийся свет фонарика. Монах лег на холодный камень и, заранее страшась, заглянул в щель, под плиту.
Он сразу узнал его, хотя прошло уже тринадцать лет. И давняя боль тут же обнаружила себя, ожил след удара и запах первой крови. Отец Гурий словно провалился на тринадцать лет в свою собственную судьбу, такой озвученной и сочной была лента видений, мелькнувших в его голове…
Назойливо бьющий по ушным перепонкам грохот тупорылого вертолета раскалывал хрустальное лесное утро. Рассвет едва занимался над рогатками елей. Он видел самого себя со стороны: свою остроносую, неровно выбритую голову, торчащую из армейского бушлата юную шею в гусиной коже озноба. Он напряженно вглядывается в осыпанный первым снегом сосняк, высматривая следы на свежем снегу. Следы попадались все чаще: глубокие, редкие, точно человек взлетал над болотом. Из-под брюха вертолета порскали куропатки, ломились через сушняк буланые лоси.
Вертолет завис довольно высоко над лесной прогалиной. Четверо солдат в черных бушлатах выпали из узкого люка на обдутую пропеллером дернину. Он спрыгнул неловко и ощутил удар о землю, болью отозвавшийся в пояснице. Крепкий мат погнал их дальше в лес, куда уводили рыхлые следы человеческих ног.
Он только теперь разглядел: человек бежал босой! «Он не должен уйти!» — перекошенный рот Гувера, начальника лагеря особого назначения, брызгал слюной, белки глаз налились кровью. Лагерь особого назначения, охраняемый двойным нарядом, был действительно особый. Здесь не неволили лесоповалом, заключенных кормили «от пуза», все работы были легкие, в теплых помещениях, но каждые две недели из лагеря уходило несколько опечатанных грузовиков. Из глухих пугливых слухов получалось, что крепкие, нестарые еще заключенные вдруг ни с того ни с сего умирали за стенами образцово вылощенного лазарета. Тел их никто, кроме начальства, не видел. Куда увозили трупы, никто не знал. Среди охраны поговаривали о секретных опытах. «Сыворотка самоубийства, — сострил какой-то прапорщик, — Гувер хочет в столицу переехать по костям!» Через полтора месяца прапорщик застрелился в нужнике.
Василий видел сбежавшего зека раза два: здоровенный детина, явно не из уголовников. Впереди блеснула первым льдом речка, пробитый в ее ломкой коре, чернел неровный фарватер, там, где сбежавший зек уходил вплавь. За соснами уже мелькала его набрякшая водой роба с оранжевым нашитым треугольником, перевернутым острием вниз. Рядом ревел, как бык, Гувер. Слов Василий уже не понимал. Его обожгло ужасом: сейчас он должен выстрелить в человека! Привстав на колено, Гувер сорвал затвор пистолета, одновременно резанули автоматные очереди. Тайга охнула и оглохла. Пули, поймав цель, ало вспороли мешковину робы, человек упал. Раненый, волоча парализованные ноги, уползал в бурелом. Гувер добил его выстрелом в голову.
Сипло матерясь, Гувер топтал тело, оно булькало кровью и переворачивалось под ударами кованых сапог.
— А ты, сука, не стрелял! — вдруг вызверился он на Василия, ударив солдата в пах и под дых.
Возвращались уже в сумерках. На полу вертолета переваливался замерзший труп. Солдаты тупо смотрели на его босые ступни в глубоких рассечинах.
По возвращении им был обещан медицинский спирт, как обстрелянным воякам. Василий шептал молитву, наверное, слишком громко.
— Ах ты, церковное рыло, гнусь, — вяло ругнулся Гувер.
И тут-то в стороне от бескрайнего, синего, как голубиное крыло, озера, еще не ставшего под лед, выплыла белая церковка на холме, словно ковчег спасения.
Долгими приполярными ночами он будет мечтать о ней, как другие о далекой невесте. Ему казалось, что она зовет его, ждет, наивно и смело открыв себя. Слезы примерзали к щекам и отворотам воротника. Он не слышал насмешек. Словно сквозь стекло видел Гувера. Весь он, темно-багровый, неопрятный, с сальной проседью, казался Василию медноголовым халдейским идолом. Брезгливо распущенный рот, полный золотых зубов, открывался по-рыбьи беззвучно…
Он узнал его почти сразу: те же вислые губы-брыли, крупный переломанный нос, долетел и запах — спекшегося многодневного пота и прелого птичьего пера. Стуча подбитыми сапогами, Гувер слонялся по подземелью, светил фонариком по углам, пробовал приподнять и сдвинуть плиту. Из темноты подземелья вышли еще двое, докурили, прижгли окурки, поторопили начальника безмолвным жестом. Тот сплюнул в пол и грузно зашагал вниз по ступеням.
Через час, не раньше, отец Гурий вышел из храма. Прячась за стену, окинул взглядом озеро. Озеро было светло и пустынно. Он стоял, дрожа от предутреннего холода, пока за озером не послышался звук вертолетного двигателя. Вертолет летел в сторону Хонги — приозерного сушняка, дикого и необитаемого места.
Изба — святилище земли
С запечной тайною и раем…
Н. Клюев
Июнь-разноцвет… В эту пору день у нас вовсе не меркнет; отдает солнышко всю силу земле; в полях рожь колос выметывает, в лесах земляника бочком алеет. Росы в июне обильные, медвяные, по утрам свежим сеном с лугов веет, — не надышаться. Прежде еще лен в эту пору сеяли, сразу после Ивана Долгого, радовались: «долгий денек вытянет ленок»… А сеяли его бабы да девки, донага раздемшись: лен обманывали. Увидит лен девку голую, да и сжалится над сиротой, уродится длинный да мягкий, девке на обнову, на крепкую справу, в девичью укладку на приданое. Но эта жизнь старинна, глубока, всего не упомнишь…
Эвон, как распогодилось, всякая животина радуется в эту пору, вот и куры довольны теплом, громко стучат носами о выскобленное донце сковородины. Радостно и привольно от всего этого и человеческой душе.
Бабка Нюра стояла на высоком крыльце, большая, статная, в пятничном темном платочке вроспуск, как носят староверки; высока, густоброва, серьезна, как есть статуя солдатки в простом и скромном ее величии.
Видно с крыльца — далеко. За исклеванным курами лужком, за забором темнеет низина — пастбище. Правее — синяя полоска бора, в другую сторону, до самого горизонта — разноцветные заплатки хозяйских гряд, покосы, баньки, нестройной гурьбой сбегающие к озеру. Позади, за деревней — оглаженные ледником спины холмов. Даль благословенная. Вот так бы и стоять, прижмурившись на утреннее солнышко, чтобы тихо отдыхало натруженное тело. «Нюрка и сщас красива бабка, гладенька», — судачили о ней на деревне. И верно, хотя и была она уже в том возрасте, когда скоропроходящую красу щедро заменяют здоровье и природное добросердечие. Русская широковатость лица мешалась в ней с вепсской остротой и настороженностью черт. Глаза светлые, с таежной печалинкой в глубине, не велики и ресницами, по северному обычаю, не богаты. Личико — почти без морщин, столь туго обтянуты лепные скулы, тонкий нос и крепкий подбородок. И зубы еще ядреные, ровно посаженные, на зависть молодицам. В лице ее, чуть расплывчато, отпечатались все черты северного русского лика, и быть бы ей, с ее могучей статью, начальницей крепкого, живучего, многолюдного рода. Такое округлое широкое сложение в народе называли «родущим», но плечи ее никогда не знали мужних объятий, и чрево навек осталось нераспечатанным. Война ли виновата, или что еще, не ведал никто. Только бабкою Нюра стала, минуя материнскую ношу.