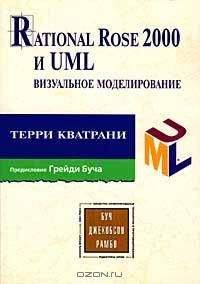Дядю Эртемизы донья Чентилеццки считала распутником и всячески выказывала свое неодобрение его присутствия. Именно поэтому Аурелио теперь старался реже бывать в доме брата и поддался уговорам племянницы переговорить с Горацио, дабы тот позволил дочке гостить у кузена, который в своей студии продолжал бы спокойно обучать ее мастерству — «подальше от сумасшедших фанатичек». Горацио не стал возражать, лишь Пруденция была недовольна исчезновением помощниц по хозяйству, ведь кроме дочери, помогавшей управляться с младшими детьми, приходилось отпускать с Эртемизой и ее няню, которая хоть и не отличалась большим умом и рвением к работе, но лишней в доме не была.
Глава третья Золотой конь
Когда бедная тетя Орсола увидела племянницу, то воззвала к Мадонне и долго причитала от жалости к ее худобе. Дядюшкина жена и сама могла похвастать телесной пышностью, и обе их дочери, четырнадцатилетние близнецы — Мичелина и Селия, были девушками дородными, отчего в сторону семейства Ломи уже поглядывали женихи, полагая, что по возрасту синьорины готовы к замужеству.
— Мамма Мия, дорогая моя, неужели тебя не кормят?! — приговаривала Орсола Ломи во время каждого приема пищи, будь то завтрак, обед или ужин, и старалась, чтобы тарелка Эртемизы наполнялась до краев. — Разве пристало девочке быть такой худосочной? Я даже напугалась, не больна ли ты, детка! Кушай, кушай, уж я сделаю из тебя красавицу, и твои непутевые родители ахнут, когда ты вернешься домой!
Едва осилив половину порции, девочка молитвенно смотрела на дядю, и Аурелио, улучив момент, менялся с ней приборами, очень веселя тем самым двойняшек, которые, хихикая и перешептываясь, с любопытством следили за их возней под скатертью. Не понимая причин оживления, синьора Ломи хмурилась и предупредительно барабанила красивыми полными пальцами по столу. Но никто не воспринимал ее притворных строгостей всерьез, ведь даже дети самых непутевых слуг знали о добром нраве доньи Орсолы.
Для кузин Эртемиза была еще слишком мала, и посему подругами они не стали. Селия и Мичелина любили наряжать сестренку, будто живую куклу, делать ей всевозможные прически, но когда она им надоедала, девочки со скучающим видом отворачивались и уходили по своим делам.
В дом дядюшки «страхолюды» не наведывались, благодаря чему Эртемиза совсем отвыкла от их коварного шепотка, хотя про обещание подарка от мессера Караваджо не забыла. Если бы не гастрономическая экспансия тети Орсолы, то эти несколько месяцев жизни девочка могла бы назвать самыми безоблачными: она все так же училась живописи в мастерской художника, только теперь преподавателем был не отец, а его кузен; все так же подглядывала за людьми, тем паче что все они здесь были ей в новинку, а оттого стократ интереснее; все так же гуляла с любящей поспать нянькой, которая нисколько не мешала ей разглядывать всевозможные творения и явления природы — от букашек до облаков. Только одной вещи никогда не было в родном доме Эртемизы — визитов дядиных старых друзей, генерала и графа. И хотя пожилой венецианец Доменико Перруччи ушел в отставку, не дослужившись даже до полковника, в воображении девочки он был генералом, генералом и ни кем еще, кроме генерала. А вот граф Валиннаро был самым настоящим графом, к тому же, по словам доньи Орсолы, отчаянным мотом и знатным лошадником, которого спасало от разорения только немыслимо огромное наследство, не иссякающее при всех его стараниях в деле расточения денег.
Заправившись дарами дядюшкиных винных погребов — к слову, весьма щедрых, — седой и громогласный «генерал» начинал поминать былое, с языка его нередко срывались казарменные словечки, а более всего он сыпал проклятьями в адрес тех, из-за кого «просрали Кипр чертовым туркам»:
— Пусть горит в аду Николо Дандоло! Кровь павших в Никосии навсегда останется на его сальной роже! — рычал Перруччи, стуча кулаком по креслу.
— Доменико, не горячись! — увещевал его Аурелио, но после стольких опрокинутых бокалов это было безнадежной комиссией. Оставалось лишь надеяться, что перепёлки, на которых всегда налегал венецианец, и на сей раз будут достаточно прожарены, но не пережарены: только это могло смягчить благородную ярость старого патриота.
Эртемиза тихо хихикала и, прячась от дяди, который как пить дать велел бы ей идти на прогулку вместо того чтобы слушать брань хмельного вояки, сползала под стол, где опиралась спиной на одну из дубовых ножек и слушала исповедь синьора Перруччи до самого конца. И пока она в полутьме под скатертью чертила на серой бумаге большого неуклюжего медведя в феске, с досадой отмахивавшегося лапой от назойливой венецианской осы, перед глазами ее восставали картины тех давних баталий.
Сорок пять дней преисподней — и Никосия пала под османскими пушечными ядрами и ятаганами, один из которых снес голову командующему обороной острова, тому самому Дандоло. Выложив ее в чашу для пущего устрашения, Лала Мустафа-паша отправил своего гонца к последней сопротивлявшейся венецианской крепости. Это была Фамагуста, где нес службу в гарнизоне синьор Перруччи.
— Пусть покоятся с миром души героев, Брагадина и Бальони! — восклицал «генерал» и, расплескивая, вскидывал свой бокал, будто саблю. — Уж они не были слабаками, как предатель Дандоло!
Командиры Маркантонио Брагадин и Асторре Бальони отказались сдавать Фамагусту, и янычары начали долгую, изматывающую обитателей крепости осаду.
Объединенный христианский флот, выдвинувшийся было на подмогу киприотам, повернул вспять, едва узнав о падении Никосии. Мощная армада трусливо ретировалась, побоявшись даже показаться на глаза грозному противнику. Фамагуста держалась до последнего, в городе начался голод, болезни уносили одну жизнь за другой, и первыми гибли дети.
— Мы едва таскали ноги. Оружие становилось для нас неподъемным, но мы все равно отбивались от этих нечестивцев. Проклятые магометане штурмовали нас почти целый год, и мы сражались! Вечная память нашим командирам!
Близился август, Бальони и Брагадин поняли, что дальнейшее сопротивление бессмысленно, подмоги от испанцев и венецианцев они не дождутся, а город просто вымрет. Чтобы спасти от резни хотя бы остатки выжившего населения, командиры приказали поднять белый флаг для начала переговоров. Так пал юго-восток на милость чужакам, которые первыми же нарушили условия мира, обещающие всем тем жителям крепости, кто только пожелает, под развевающимися венецианскими знаменами покинуть Кипр и перебраться на Крит: на переговорах паши и Брагадина началась резня христиан. Погибли почти все, кто не успел уехать на свободный остров: их отсеченные головы свалили в кучу перед палаткой Лала Мустафы в оскверненной Фамагусте.
Тяжелораненый Доменико Перруччи выжил лишь благодаря одной семье из Фамагусты.
— Бернарди! До сих пор помню эту фамилию! Он венецианец, она с Изумрудного острова, глаза — вот такие! Ах, какие бездонные кельтские глаза! Только они на лице и оставались, ее саму шатало ветром, щеки запали, в чем душа, что называется!.. Из всех их детей — последняя девочка с ними, да и та, бедняжка, уже при смерти. А у этой Фиоренцы еще были силы выхаживать меня. Сама еще девчонка, высохла с голоду, как щепка, а силищи-то сколько в ней оказалось, сколько силы духа! Если бы не они, не Бернарди эти, не сидеть бы нам сейчас с тобой за одним столом, Аурелио…
— Фиоренцы? В прошлый раз ты звал ее как-то… Фри… Фли…
— Флидас, — согласно кивал «генерал». — По-нашему ее звали Фиоренца, а так — Флидас. Так к ней, по-ихнему, старуха обращалась, мать или бабка, уж не вспомню. Глазищи — вот! С ума сойти от таких, утонуть к чертовой матери!
А под столом на серой бумаге проступал образ, нарисованный детской рукой, наивный и возвышенный одновременно. Несколько дней Эртемизе нравилось то, что получилось: при каждом удобном случае она вынимала свой набросок и любовалась им. Но очарование рассеивалось подобно тому, как выдувает ветер песок из скалистого утеса, и в один не слишком прекрасный день все недостатки работы проступали перед нею с безжалостной очевидностью. Она видела тогда и нарушения пропорций, и неправильную тень, и неточные линии.
— О чем грустишь? — дядя лучше кого бы то ни было чувствовал ее настроение.
Вместо ответа, надувшись и нахохлившись, не глядя в глаза, Эртемиза протянула ему рисунок. Дядя похмыкал, почесал бородку, сощурился, то поднося бумагу ближе к глазам, то отодвигая на вытянутой руке.
— Пойди сюда, детка.
И когда детка с хмурым и трагическим видом подошла, Аурелио повернул ее к зеркалу:
— Смотри сюда, если хочешь, чтобы портрет был точным. Нет, не сюда, не на себя, — он аккуратно взял ее пальцами за маленький подбородок и повернул голову девочки в сторону зеркального отражения наброска. — Сюда. Ты видишь, здесь он кривее, чем если смотришь на него без зеркала? — Эртемиза кивнула. — Зеркало обладает бесценными и чудесными свойствами, когда ты имеешь дело с рисованием. Доверяй ему, но только в этом. Только в этом! — он отбросил бумагу. — Миза, отец учил тебя грунтовке холста? Нет? Идем, я собираюсь заняться этим, и поскольку уж ты здесь, самое время познакомить тебя с синьорами Проклейкой и Грунтом.