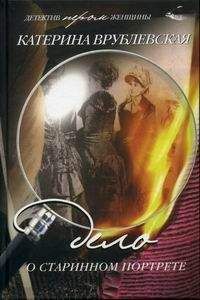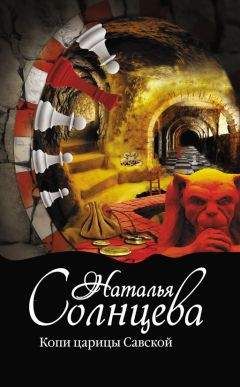Нестеров вовсю занялся фельдшерской практикой: вскрывал нарывы, прикладывал свинцовую примочку к ушибам, поил недужных касторкой — почему-то многие маялись животами от морской болезни.
Запах в трюме стоял тяжелый. Воды для мытья нет — только питьевая. Гальюн устроен просто до невозможности — все совершалось в бачок, который дежурный выливал в бочку. Раз в день бочку стрелой вытаскивали наверх матросы и опорожняли в море.
Около двух десятков человек ходили за коровами: задавали корм, сгребали в сторону навоз. Бабы доили. Детям давали свежее молоко.
Уже прошли Босфор и Дарданеллы. Потеплело. Корабль вышел в Эгейское море, и я каждое утро выходила на палубу и наслаждалась особенным дурманящим воздухом. Здешний ветер не похож на те резкие колючие порывы, которые не давали мне дышать в N-ске. Морской воздух напоен жизнью, именно тут должна была зародиться цивилизация, и принести миру красоту и искусство.
— Ох, какая бабонька! И наверху ходит — наверное, из благородных. Сейчас мы ее оприходуем!..
В мои раздумья ворвался наглый пьяный возглас. Я обернулась. За моей спиной стояли два мужика и протягивали ко мне руки.
— Хороша, — с пьяной настойчивостью сказал один из них. — Чистенькая.
— Позвольте, — я отступила к поручню, — что вы себе позволяете?
— А чего ж не позволить? — усмехнулся второй. — Мы хотим чинно благородно под ручку погулять. Дадите ручку, барыня?
Испугаться я не успела. Откуда ни возьмись, появился боцман и засвистел. Со всех сторон подбежали матросы и скрутили пьянчуг.
Я глядела на боцмана как зачарованная. У него были косматые брови, сдвинутые с крайне недовольным видом, и красный расплюснутый нос. Морщины настолько глубоко прорезали его обветренное лицо, что их можно было принять за шрамы. Он шел на меня, переступая кривыми ногами носками внутрь, а выше коротких черных пальцев-крючьев виднелась татуировка — адмиралтейский якорь, перевитый роскошной цепью и над ним надпись «Клава».
— Почему на верхней палубе? — загремел боцман. — Кто позволил?
Один из мужиков принялся канючить:
— Воздухом подышать хотели, вашбродь, сил нет в трюме сидеть!
— Пьяные почему? Ведь перед посадкой обыскивали на предмет? Неужто пронесли, мерзавцы?
— А… Да это… — но второй мужик, повыше и покрепче, не дал ему договорить и толкнул локтем в бок.
К нам подошел Аршинов.
— Откуда водка? Признавайтесь, не сойти вам на берег!
— Христофорыч гонит…
— Что? — не понял Аршинов.
Толстый боцман взревел:
— Открытый огонь в трюме?! Выкину за борт собственными руками!
Он отдал приказ матросам, и те спустились в трюм. Через несколько минут она выволокли на свет божий Маслоедова, запомнившегося мне еще по переписи в портовой конторе — уж очень он произвел неприятное впечатление.
За ним на палубу вылезли две женщины и тут же принялись голосить — это были его сестра и жена. Потом двое матросов выволокли наружу бак с крышкой и мокрую табуретку, от которой несло сивухой.
Испуганный Маслоедов упал на колени и принялся биться лбом о деревянный палубный настил.
— Ах ты, падаль червивая! Я тебя, негодяя, за борт вышвырну! Сгною! Ишь что удумал — огонь в трюме разводить! Самогон гнать! — топал ногами боцман. — Прямо сейчас, своими руками на корм ракам, бизань тебе в глотку вместе со всеми парусами по самый клотик!
Бабы, воя, кинулись в ноги Аршинову, умоляя пощадить кормильца.
— Вот что, — остановил Николай Иванович разбушевавшегося боцмана. — Не надо этого за борт. Лучше вручите ему вилы и в скотный трюм навоз убирать. Пусть искупает вину. Мог ведь, подлец, корабль поджечь из за своей копеечной выгоды.
Так и сделали. Поникшего Маслоедова матросы потащили в другой трюм, за ним, всхлипывая, последовали его жена и сестра, а я подошла к Аршинову.
— Плохо переселенцам внизу, Николай Иванович, — сказала я тихо. — В темноте сидят, страдают от морской болезни, кругом вонь и холод. Когда же кончится это плавание?!
— Не волнуйтесь, Полина, — ответил он мне. — Вот только пересечем Средиземное море, а там, на подходе к Александрии, можно будет и на нижней палубе расположиться. Даже ночевать смогут. Температура до летней прогреется. А уж когда до Абиссинии дойдем, вы о сегодняшних холодах с тоской вспоминать начнете, я вас уверяю.
— Кстати, Николай Иванович, а где ваш арапчонок Али, что всегда за вами следовал, как собачонка на привязи?
Аршинов как-то странно посмотрел по сторонам, потом на меня и сказал изменившимся голосом:
— Он тут, Полина, просто вы его еще не видели. Едет у меня в каюте. Простите, меня ждет капитан.
И он быстрым шагом направился прочь от меня. Я осталась на палубе и продолжала смотреть на волнующееся море.
— Скучаете? Или отдыхаете? — около меня стоял Лев Платонович и попыхивал пенковой трубкой с изогнутым чубуком.
— Смотрю на море. Мне никогда не надоедает любоваться волнами.
— А я на вас смотрю, Аполлинария Лазаревна. И восхищаюсь! Пуститься одной в столь трудное и опасное путешествие… Зачем? Вам не сиделось дома в уютном кресле?
— То есть, исходя из ваших слов, мужчине можно путешествовать, а женщине нельзя. Так изволите вас понимать?
— Не обижайтесь, прошу вас. Есть много мест на земле, пригодных для легкого и приятной прогулки. Париж, например: "Мулен Руж", Эйфелева башня, Всемирная выставка…
— Спасибо, Лев Платонович, в Париже я уже была. К моему удивлению, поездка оказалась совсем не увеселительной, и чтобы отдохнуть от нее, я пустилась в это плавание.[10]
Он картинно ахнул и выпустил изо рта клуб дыма:
— Боже! Что же вы пережили в Париже, если считаете Абиссинию прекрасной страной для времяпрепровождения?
Мне не хотелось посвящать его в детали, и я поспешила перевести разговор на другое — известно, что мужчины очень любят говорить о своей драгоценной особе:
— А вы зачем едете в эту экспедицию, Лев Платонович? Вы не похожи на беженца-переселенца, не по службе, как Вохряков, да и в то, что вы обуреваемы идеалами, как Николай Иванович, мне тоже не верится. Загадочный вы человек.
Мой собеседник непринужденно рассмеялся:
— Сметливая вы, г-жа Авилова. Я, не в пример другим мужчинам, ценю в дамах светлую голову — от этого женщина только краше становится. Вы совершенно правы: меня влекут в Абиссинию совсем другие мотивы. Я охотник, а в тех краях есть плато, на котором водятся редкие звери. Вот и соблазнился, когда Аршинов предложил мне присоединиться к экспедиции. Белый леопард или серебристый бабуин будут неплохими дополнениями к моей коллекции.
— Простите, а как вы сохраняете шкуры? — спросила я.
— На досуге освоил профессию таксидермиста. Знаю основные приемы, как оберечь шкуру от разложения. Ну, а потом набить ее опилками — занятие для дилетанта.
— Вы, наверное, и белку в глаз стреляете, чтобы шкурку не портить?
— Ну, что вы, уважаемая! Белок стреляют из мелкокалиберной винтовки — мелкашки. Можно, конечно, из дробовика, но тогда целиться надо так, чтобы дробь в голову попала. Тут есть одна хитрость. Вы тихонько передвигаетесь, — Лев Платонович сделал несколько вкрадчивых скользящих движений по палубе, — пока не выберете позицию, чтобы тушка белки оказалась закрытой стволом дерева. Вы видите только голову и стреляете. Дробь в голове, а шкурка цела! — Охотник остановился и всплеснул руками: — Кажется, я увлекся, Аполлинария Лазаревна. Прошу простить.
— Нет, что вы! Мне было очень интересно, — улыбнулась я. — Вы поохотитесь, найдете себе бабуина и уедете?
— Ну… — он внимательно посмотрел на меня тем самым взглядом, который я прекрасно научилась распознавать у мужчин. — Может быть, еще нечто заставит меня задержаться…
— Лев Платонович, вот вы где! Здравствуйте, сударыня, — к нам подошел запыхавшийся чиновник Вохряков и неловко поклонился. — А я вас по всему кораблю ищу. Дело одно обсудить надо бы…
— Простите, Аполлинария Лазаревна, дела, — Головнин поцеловал мне руку и откланялся.
* * *
Качка. Арапчонок Али. Монах Фасиль Агонафер. Старинный пергамент. Рассказ о царе Соломоне и царице Савской. Прибытие в Александрию. Незваное вторжение. Восточный обед. Менелик крадет ковчег. Тайна рубинов. Антоний и Феодосий. План Аполлинарии.
Я отправилась в каюту, так как ветер посвежел, и началась качка.
К вечеру качка усилилась. Со столика стали падать книги и щетки для волос, жалобно звенели два стакана, а к горлу поднялась тошнотворная муть. "Где же сухари и соленые огурцы?" — подумала я, хотя есть не хотелось.
Лежа пластом на койке, я прислушивалась к своему желудку, то скачущему вверх, то падающему далеко вниз, куда-то к пяткам. Мне хотелось только одного — лежать горизонтально. Разве я многого прошу?