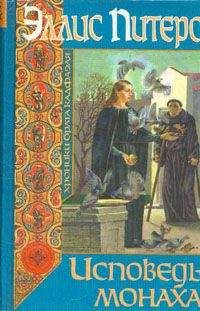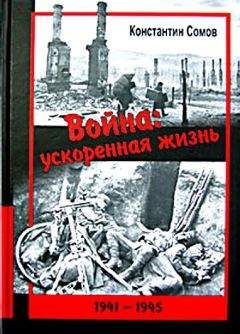— Но помехи больше нет! — издал ликующий вопль Росселин. — Я могу свататься, я по закону могу просить ее руки, никаких преград не существует. Мы чисты, мы можем открыто любить друг друга, никаких запретов! Я сейчас же поеду за ней. Поеду и привезу ее. Она вернется, вот увидите! Я знал, — захлебывался он счастьем, и его синие глаза победно сверкали, — я всегда знал, что в нашей любви нет ничего дурного, ничего, ничего! Это вы без конца внушали мне, что я совершаю тяжкий грех! Сэр, позвольте мне поехать и привезти ее домой!
Тут уж не выдержал Перронет: он злобно втянул в себя воздух — словно зашипела вспыхнувшая серная спичка — и в два шага оказался перед расходившимся мальчишкой.
— Больно ты прыткий, дружок! Заруби себе на носу, что прав у тебя не больше, чем у меня. Я сватался и сватаюсь к ней, и отказываться не собираюсь, так и знай!
— Да сватайся себе на здоровье! — Росселин был слишком опьянен радостью, чтобы обижаться или поступать невеликодушно. — Я же не против. Каждый имеет право на это, но только теперь мы на равных, ты и я, и кто угодно еще. А там посмотрим, что скажет Элисенда. — Но сам-то он нисколько не сомневался в ее ответе, и эта его самодовольная уверенность была для Перронета худшим оскорблением. Рука Перронета потянулась к кинжалу на поясе, с его губ готовы были сорваться злые слова, но тут Одемар вновь стукнул кулаком по столу и так рявкнул, что оба сразу притихли.
— Угомонитесь все! Кто здесь старший? Я или, может, кто другой? Начнем с того, что родня у девушки имеется — она племянница мне. Если у кого здесь и есть право распоряжаться ее судьбой и нести за нее ответственность — я не говорю о тех, кто давным-давно предпочел переложить и то, и другое на чужие плечи, — так это у меня, и я говорю, что раз Сенред сам этого хочет, она будет жить здесь под его опекой и он сохранит по отношению к ней все права, какими он обладал все эти годы в качестве ее ближайшего родственника. А что касается ее замужества, то мы — я и Сенред — вместе позаботимся о ее благе, но принуждать ее ни к чему не станем. А пока пусть Элисенда побудет одна, как она того желает. Она просила дать ей время поразмыслить на покое, и мы дадим ей время. Как только она будет готова возвратиться домой, я сам поеду и привезу ее.
— Вот и славно! — Сенред с облегчением вздохнул. — Теперь я доволен. О большем я и просить не мог.
— А святой брат… — Одемар повернулся к Кадфаэлю. Он уже полностью овладел ситуацией, он был хозяином положения и отдавал распоряжения, а всем остальным надлежало их исполнять. Главное не наломать дров, пощадить чувства людей — именно об этом думал Одемар в первую очередь, в отличие от своей неукротимой мамаши, которая привыкла идти напролом, оставляя после себя одни страдания и горе для всех. — Если ты и впрямь возвращаешься в Фарвелл, передай им мои слова. И нечего о прошлом слезы лить, но впредь все должно делаться открыто и честно. Росселин, — властно окликнул он, обратив взгляд на юнца, нетерпеливо переступавшего с ноги на ногу и сиявшего как медный грош, — готовь лошадей, мы едем в Элфорд. Ты покамест у меня на службе, и я отпущу тебя тогда, когда сочту нужным. И не думай, что я забыл о твоей самовольной отлучке. Не доставляй мне больше поводов для недовольства!
Но в голосе его не было гнева, и ни сами слова, ни строгий взгляд, который их сопровождал, не омрачили безоблачно счастливого выражения лица Росселина. Он привычно преклонил колено в знак того, что подчиняется приказу, и опрометью кинулся его выполнять. Его как ветром сдуло, и занавес на двери заколыхался, впуская в комнату легкий сквознячок.
Наконец Одемар остановил свой взор на Аделаис. Она стояла перед ним, не опуская глаз, не сводя тяжелого взгляда с его лица, в ожидании его решения.
— Мадам, вы едете со мной в Элфорд. То, зачем вы сюда пожаловали, вы исполнили.
Но первым в седле оказался Кадфаэль. Никто в нем здесь больше не нуждался, а что до его собственного любопытства — интересно все-таки было бы поглядеть, как все устроится в дальнейшем, ведь одно дело решить на словах, а другое провести в жизнь, — то ему следовало умерить свои аппетиты и довольствоваться тем, что он уже знал: вряд ли судьба еще когда-нибудь забросит его в эти края. Он не спеша вывел свою лошадку, уселся верхом и затрусил к воротам мимо грумов, седлавших коней для Одемара. Тут его и увидел Росселин, догнал и ухватился за стремя.
— Брат Кадфаэль… — начал он и, рассмеявшись, замотал головой: он все еще не мог прийти в себя от счастья и все слова куда-то растерялись. — Скажи ей! Скажи ей, мы свободны, теперь никто не обвинит нас…
— Сынок, — ласково сказал Кадфаэль, — она уже знает это, знает не хуже тебя.
— Еще скажи, что скоро, очень скоро я приеду за ней. Да-да, понимаю, — сказал он, заметив, что монах удивленно поднял брови, — но он все равно пошлет меня. Я его знаю! Конечно, он скорей выберет своего, на кого он всегда может положиться, чьи земли граничат с его собственными, чем какого-то заезжего лорда с другого конца графства. И отец теперь не будет вставать между нами. Зачем, если это всех устраивает? Все ведь осталось как было, изменилось только то, что и нужно было изменить.
В его словах, пожалуй, был резон, подумал Кадфаэль, глядя сверху вниз на юное, возбужденное лицо. Что изменилось? Только то, что на смену лжи пришла правда, и, сколь бы ни было трудно принять все как есть, такая перемена всегда во благо. Правда может дорого стоить, но зато и ценность ее со временем не становится меньше.
— Скажи ему, — Серьезно произнес Росселин, — хромому брату… ее отцу… — Тут он запнулся, будто сам испугался того, что произнесли его уста. — Скажи, что я рад за него, и еще — что я у него в неоплатном долгу. Скажи, пусть не беспокоится о ней, никогда! Я всю свою жизнь положу на то, чтобы сделать ее счастливой!
Приблизительно в тот час, когда Кадфаэль слезал с седла в Фарвелле, Аделаис де Клари и ее сын сидели вдвоем в его личных покоях в Элфорде. Оба были погружены в тягостное молчание. Близился вечер, свет уже начал тускнеть, но он не велел зажигать свечи.
— У нас остался еще один вопрос, — сказал он наконец, стряхивая с себя оцепенение, — которого мы пока едва коснулись. Старуха-служанка приходила ведь к вам, мадам. Вы отказали ей и отправили ее назад. Назад, навстречу смерти! То был ваш приказ?
Спокойно, бесстрастно она ответила:
— Нет!
— Я не стану спрашивать, что вам известно об этом. К чему? Она мертва. Но ваш образ действий мне совсем не по душе, и я более не намерен это терпеть. Завтра, мадам, вы отправитесь обратно в Гэльс. Оставайтесь там и не вздумайте снова являться сюда, в мой дом. Отныне мои двери для вас закрыты.
— Как пожелаешь. Мне нужно совсем немного, да и то теперь уже, наверно, не надолго. Гэльс так Гэльс, — сказала она безразлично.
— В таком случае, мадам, можете ехать. Я дам вам эскорт, чтобы вы добрались целой и невредимой, — добавил он многозначительно, — а то ваши верные стражи куда-то подевались, оба сразу! Если вам угодно скрыть свое лицо, можете взять носилки. Пусть никто не упрекнет меня, что я отправил вас в дорогу одну, беззащитную, как кое-кто отправил ночью старую служанку!
Аделаис встала и, не проронив ни слова, вышла.
В зале слуги уже укрепляли на стенах зажженные факелы, но в углах и под закопченными балками высокого свода притаилась густая тьма.
Росселин стоял на вымощенном плиткой полу возле центрального очага и каблуком сапога пытался разворошить дерн, чтобы притушенный на день огонь вновь вспыхнул и разгорелся. Через руку у него был перекинут плащ Одемара и капюшон свисал чуть не до полу. Огонь понемногу занялся, и его склоненное лицо юноши осветилось золотыми отблесками пламени — нежный, почти девичий овал, высокий чистый лоб, тонкие черты и на губах едва заметная лукавая улыбка. Весь его облик дышал неподдельным, полным счастьем. Льняные волосы свесились вдоль щек и, распавшись на затылке, обнажили трогательно беззащитную шею. Она на миг замедлила шаг и из темноты, никем не замеченная, смотрела на него, вновь испытав сладкую муку, какую дает созерцание юной красоты. И предчувствие, что она мелькнет и исчезнет навсегда. Как это пронзительно напомнило ей что-то дальнее и, казалось, прочно забытое, что-то, чему суждено было, словно фениксу, возродиться из пепла в ту минуту, когда вдруг открылась дверь и ее глазам предстало видение из прошлого — любимый образ, сокрушенный безжалостным бегом времени.
Она неслышно прошла мимо, чтобы юноша не повернул голову на случайный звук и не устремил на нее невыносимо счастливые, сверкающие, синие глаза. Она слишком хорошо помнила другие глаза — темные, глубокие, выразительные под черными дугами бровей. Те глаза никогда так на нее не глядели. В них всегда были только смирение, предупредительность — впрочем, чаще они и вовсе были опущены долу.