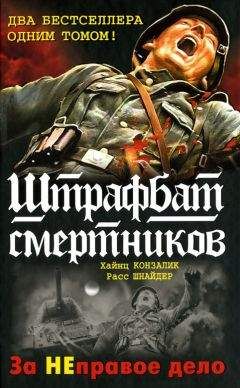Камни маленькой церкви Санта-Вердиана еще гудели от слов проповедника, когда печальная вереница верующих степенно двинулась к выходу и миновала грязную входную дверь. Церковь располагалась вдали от центра Флоренции, а потому на узкой улочке делль Аньоло и в окрестных лугах прихожан поджидали лошади и экипажи.
Лоренцо Медичи пожалел о том, что несколько лет назад позволил доминиканцу проповедовать в Сан-Марко. Нападки монаха на церковную коррупцию и нравы правительства не способствовали движению по пути компромиссов и соглашений, который выбрал Великолепный. А ведь именно это решение в последние годы позволило Флоренции все более обогащаться и доминировать среди сил, составляющих в Италии политическое равновесие. Поэтому, несмотря на все уважение к монаху, правитель Флоренции отвел ему роль скромного лектора в маленькой отдаленной церкви. Порой он и сам, переодевшись простым торговцем, приходил послушать проповедника.
В глубине единственного нефа, за хорами, Джованни Пико любовался великолепной картиной Джотто ди Бондоне, находящейся в алтарной нише. На ней была изображена Мадонна с Младенцем на руках. Ее синий плащ прекрасно сочетался с золотым одеянием, на редкость рельефно выделяя фигуру. Лицо, написанное в три четверти оборота, хранило такое выражение, словно она знала какую-то тайну, которую могла поверить только художнику.
Пико посмотрел в левый трансепт, где Савонарола принимал скромные поздравления верующих. На его проповеди стекалось все больше народа всех сословий. Среди них попадались и аристократы, и торговцы, и простой люд. У монаха во Флоренции было много последователей. Это заставляло церковную верхушку относиться к нему подозрительно. Его растущая популярность пугала. Слушая то, что он говорил о Римской церкви, Пико изумлялся, как его еще не отстранили от служения.
Джованни подошел к Савонароле. Тот все продолжал журить и раздавать благословения, а его крючковатый нос, казалось, указывал пастве, где следует опуститься на колени. Пико нужен был его совет. Письмо, полученное из Рима, требовало принять решение. Монах снова надвинул на голову черный капюшон и уже входил в ризницу, когда почувствовал за плечами чье-то присутствие и остановился, но не обернулся.
— Если ты тот, о ком я думаю, то мои слова не возымели на тебя никакого действия.
— Твои слова остры, как толедские клинки, но щит твоей дружбы все же сильнее.
Монах повернулся к нему, снял капюшон и обнажил широкую тонзуру, вокруг которой бобриком стояли густые черные волосы.
— Что ты сделал со своими золотыми локонами? — спросил он без улыбки.
— Они из другой жизни. Перед тобой теперь новый человек. Я изучил геометрию, — ответил Пико.
— Оставь Платона в покое. Ты в церкви, и с тобой говорит служитель Господа. Еще и бороду отрастил. Ты что, в монахи собрался?
— Постригусь, когда Савонарола займет почетное место во Дворце синьории.
— Смотри, ты пообещал!
— И сдержу слово.
— Если ты не собираешься в монахи и все, что я тут говорил, не произвело на тебя впечатления, то скажи, зачем ты явился? Прошло уже столько времени.
— Мне нужны твои дружба и совет.
— Первое может дать человек, второе — исповедник. Кто требуется тебе?
— Оба. Когда в одном существе сочетаются несколько природных свойств — это почетно.
— Нахал и богохульник! Иди, я тебя обниму. Давно я так никому не радовался.
Через дверь ризницы они вышли в поле, где уже зацвел миндаль и распустились первые цветы унаби.[55] По краям теснились густые кусты мимозы. Их желтые цветки напоминали путникам о золоте, которое Флорентийская республика щедро раздавала своим гражданам. Пико был почти на пядь ниже ростом и на десять лет моложе монаха. Издали Савонарола мог показаться согбенным старцем, хотя ему было всего тридцать пять. Да и слова графа словно придавили его к земле.
— Забудь о друге. Если я не выслушаю тебя как исповедник, то буду опасаться, что когда-нибудь донесу о том, что ты мне сказал. Ты повредился в уме, Джованни. Твой разум поражен грехом гордыни.
— Ты меня знаешь как никто другой. Не я искал дорогу, что привела меня к этим выводам. Она сама мне открылась. Верь мне, Джироламо, все, что я говорю, истинно, логично и не несет в себе зла.
— Как же случилось, что ты осмелился пустить побоку Христа и все его деяния? Поверить не могу!
— Теперь все предстает в новом свете. Никакое из его деяний не противоречит его примеру. Мать есть любовь, и мы все — ее дети, Джироламо.
— Ты богохульствуешь, и я не могу отпустить тебе грехи.
— Мне это не нужно. Я даже не претендую на то, чтобы ты поверил хоть одному моему слову, не прочитав рукопись и не попытавшись понять то, что я тебе сказал. Мне нужно понимание. Знаешь ли ты, что такое любовь? Не к Богу, а та, что соединяет мужчину и женщину?
— Я от нее отказался! — крикнул монах. — Зачем ты мне напоминаешь? С того времени я думаю только о Боге!
— И о предательстве Церкви.
— Это другой разговор. Уходи, Джованни. Что тебе от меня нужно?
— Мудрый совет друга. Больше ничего.
— Он будет последним, Джованни. Ты своим плугом провел слишком глубокую борозду между нами. Я не могу и не хочу идти за тобой.
— Ладно. Тогда увидимся на небесах.
— Все-таки выслушай меня в последний раз. Не все твои тезисы осуждены. Тридцать из девятисот — хороший результат. Защищай свои позиции и контратакуй. Диалектика — вот чего тебе не хватает в последнюю очередь, а в первую — умения рассуждать здраво. Но защищайся отсюда, из Флоренции. Здесь ты в безопасности. Что же до остальных тезисов, для которых первые девятьсот служат троянским конем, то забудь о них. Спрячь или сожги! Не доверяйся Риму, не езди туда больше, даже если того требует твоя плоть.
— Я должен снова увидеть Маргериту, я не могу без нее.
— Тогда поезжай и сам накинь себе на шею веревку. Похоть сбивает тебя с толку. Ты же погибнешь.
— Любовь сильнее смерти, Джироламо. Мое чувство к Маргерите — не зов плоти, хотя с ней я познал такую музыку, какую может исполнить только хор ангелов.
— К нему добавились голоса дьяволов…
— Прошу тебя, не говори так. Я ведь знаю, ты способен меня понять.
— Негоже пользоваться доверием, с которым я когда-то, в порыве безумия, тебе открылся.
— Все накрепко заперто в моем сердце. Но не только поэтому мне надо вернуться в Рим, — продолжал Пико. — Ты знаешь, другой Джироламо — тоже мой друг.
— Бенивьени?
— Да. Он уже давно в тюрьме по серьезному обвинению.
— Ересь?
— Содомия. У меня в голове не укладывается!
— Мне никогда такое не нравилось. Это слабость! Люди, подверженные ей, могут быть очень опасны.
— Не все же такие крепкие, как ты.
— Моя сила — только в убежденности. Во всем остальном мне страшно, даже очень. Я боюсь многого, к примеру этих адских костров. Ведь на земле им зачастую скармливают невинных. Будь осторожен, Джованни.
— Да и ты тоже. Твои слова не просто задевают, они чистейшая ересь. Мы с тобой, как два Давида, что атакуют Голиафа с разных сторон. Я никогда не поверю, что этому пастушку хватило одного броска.
— Ладно, остановись. Делай, что я говорю. Используй деньги, которые имеешь, чтобы освободить твоего содомита, но в Рим не езди. А теперь иди! Слуга, что следует за тобой поодаль, действует мне на нервы, а твой конь бьет копытом, совсем как ты. Но остерегайся морозника.
— Я знаю, он ядовит.
— Мало знаешь.
— Мы еще увидимся, Джироламо?
— Сомневаюсь, разве что перед Господом… или перед его Матерью.
Монах обернулся, посмотрел вслед уезжавшему Пико и наставил на него указательный палец.
— Помни о своем обещании! Если я завоюю Флоренцию, ты пострижешься в монахи!
Джованни нахлестывал коня, который и без того уже вспотел после крутого подъема во Фьезоле. Встреча с монахом довела его до крайности. Мысли Пико летели в Рим. Позже, у себя в кабинете, при огоньке свечи, он написал письмо.
Мой дорогой друг и брат!
Я говорил с монахом, который тебе знаком. Он посоветовал мне ради пользы моего здоровья предпринять поездку в Рим. Здесь я только относительно здоров, несмотря на усилия медиков, которым не очень доверяю. Я вышлю тебе денег. Сделай все возможное, чтобы вызволить из неприятностей дорогого поэта, стихи которого, полные муки, звучат у меня в ушах. Представляю себе также страдания моего милого цветка, который не смог сорвать. Полей его моими слезами и передай, что наш уговор остается в силе. Когда сможешь, извести меня о другом нашем цветке. Надеюсь, он неплохо чувствует себя в новом саду. Я знаю, ты сделаешь так, что у него ни в чем не будет недостатка. Во имя нашей дорогой Матери.
Рим