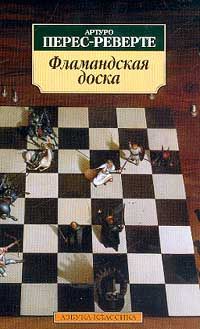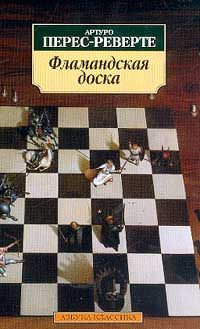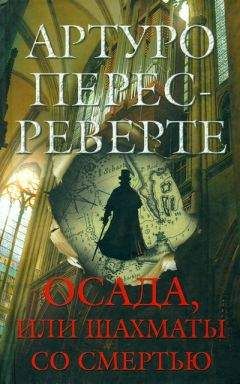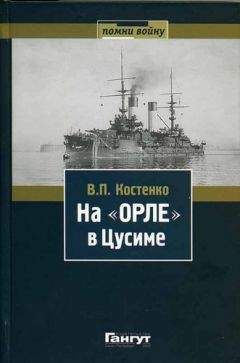— Еще один Иуда, — выпалила Менчу, словно плюнув в лицо собеседнику. Монтегрифо пожал плечами.
— Думаю, что к нему применимо подобное определение. — Но смягчил это объективное высказывание, прибавив: — Среди других.
— У меня, между прочим, на руках документ, подписанный владельцем картины, — запротестовала Менчу.
— Я знаю. Но это просто ваше соглашение, изложенное на бумаге, но не оформленное юридически, тогда как мой с ним договор заверен нотариусом и племянниками сеньора Бельмонте в качестве свидетелей. Кроме того, он предусматривает разного рода гарантии, в том числе и экономического характера, такие, как внесение нами залога… Если вы позволите мне использовать выражение, которое употребил сеньор Лапенья, подписывая наш документ, против этого не попрешь, многоуважаемая сеньора.
Менчу подалась вперед, и Хулия испугалась, что чашечка кофе, которую она все еще держала в руке, сейчас полетит в Монтегрифо вместе со всем тем, что в ней еще оставалось; однако Менчу, сдержавшись, поставила чашку на стол. Она задыхалась от возмущения, и выражение ярости разом состарило ее лицо, несмотря на заботливо наложенный макияж. От резкого движения юбка у нее задралась, еще больше обнажив ляжки, и Хулия от всей души пожалела, что вынуждена присутствовать при столь неприятной сцене.
— А что будет делать «Клэймор», — срывающимся от бешенства голосом проговорила Менчу, — если я возьму и предложу картину другой фирме?
Монтегрифо рассматривал струйку дыма, поднимающуюся от его сигареты.
— Откровенно говоря, — казалось, он серьезно обдумывал угрозу Менчу, — я посоветовал бы вам не осложнять себе жизнь. Это было бы незаконно.
— Да я могу подать в суд, и вы все на несколько месяцев потонете в бумагах! Вы не сумеете выставить картину на аукцион. Такой вариант не приходил вам в голову?
— Разумеется, приходил. Но в этом случае пострадаете в первую очередь вы сами. — Тут он изобразил вежливую улыбку, как человек, дающий самый лучший совет, на какой только способен. — «Клэймор», как вы, несомненно, догадываетесь, располагает прекрасными адвокатами… Практически, — он помедлил пару секунд, будто сомневаясь, стоит ли продолжать, — вы рискуете потерять все. А это было бы жаль.
Менчу, резким движением рванув вниз юбку, поднялась на ноги.
— Знаешь, что я тебе скажу?.. — Дрожащие от ярости губы с трудом повиновались ей. — Ты самый большой сукин сын, с каким мне приходилось иметь дело!
Монтегрифо и Хулия также встали: она — смущенная и растерянная, он — невозмутимый.
— Я сожалею, что все так получилось, — спокойно произнес он, обращаясь к Хулии. — Я правда сожалею.
— И я тоже. — Хулия взглянула на Менчу, которая в тот момент набрасывала на плечо ремешок сумочки таким решительным движением, словно то был ремень винтовки. — Разве не можем мы все проявить хоть чуточку благоразумия?
Менчу испепелила ее взглядом.
— Вот ты и проявляй, если тебе так симпатичен этот негодяй… А я ухожу из этого разбойничьего притона.
И она выскочила за дверь, оставив ее нараспашку. Быстрый гневный стук ее каблуков отчетливо звучал в коридоре, постепенно затихая. Хулия стояла на месте, пристыженная, в нерешительности, не зная, последовать за подругой или нет. Монтегрифо, встав рядом с ней, пожал плечами.
— Женщина с характером, — проговорил он, с задумчивым видом поднося к губам сигарету. Хулия, еще растерянная, повернулась к нему:
— Она слишком многое связывала с этой картиной… Постарайтесь понять ее.
— Я ее понимаю, — примирительно улыбнулся Монтегрифо. — Но я не терплю, чтобы меня шантажировали.
— Но и вы ведь плели интриги за ее спиной, договаривались с племянниками… Я называю это нечистой игрой.
Улыбка Монтегрифо стала еще шире. В жизни всякое бывает, словно бы хотел сказать он. Потом взглянул на дверь, через которую вышла Менчу.
— Как вы думаете, что она теперь будет делать?
Хулия покачала головой.
— Ничего. Она знает, что проиграла.
Монтегрифо, казалось, задумался.
— Честолюбие, Хулия, — это чувство абсолютно законное, — произнес он через несколько секунд. — И, когда речь идет о честолюбии, единственным грехом является поражение, а победителей, как известно, не судят. — Он снова улыбнулся, на сей раз не ей, а куда-то в пространство. — Сеньора — или сеньорита — Роч пыталась вести игру, которая ей не по плечу… Скажем так, — он выпустил колечко дыма и проследил глазами, как оно поднимается к потолку, — ее честолюбие превышало ее возможности. — Взгляд его стал жестким, и Хулия подумала, что Монтегрифо, наверное, становится опасным противником, когда отбрасывает в сторону свою безукоризненную учтивость. А может, он умеет одновременно быть и учтивым, и опасным. — Надеюсь, она не станет создавать нам новых проблем, потому что за этот грех она понесет соответствующую кару… Вы понимаете, что я имею в виду? А теперь, если вы не против, давайте поговорим о нашей картине.
Бельмонте был дома один и принял Хулию с Муньосом в гостиной. Он сидел в своем кресле на колесах у той стены, где некогда висела «Игра в шахматы». Темное прямоугольное пятно на обоях и одиноко торчащий посреди него ржавый гвоздь придавали обстановке что-то тоскливое и гнетущее, вызывая жалость к этому дому и хозяину. Бельмонте, перехватив взгляды своих гостей, грустно улыбнулся.
— Пока мне не хочется ничего вешать сюда, — пояснил он. — Пока… — Подняв худую, высохшую руку, он сделал ею жест, выражающий покорность судьбе. — Трудно сразу привыкнуть…
— Я понимаю, — с искренней симпатией сказала Хулия.
Старик медленно склонил голову.
— Да. Я знаю, что вы понимаете. — Он взглянул на Муньоса, явно ожидая, что и тот проявит сочувствие, но шахматист молчал, пустыми глазами глядя на пустую стену. — Вы с самого начала показались мне очень умной девушкой. — Он обратился к Муньосу: — Не правда ли, кабальеро?
Муньос медленно перевел взгляд со стены на старика и коротко кивнул, но не произнес ни слова. Возможно, он был поглощен своими мыслями.
Бельмонте посмотрел на Хулию.
— Что касается вашей подруги… — Он помрачнел, явно испытывая неловкость. — Я хотел бы, чтобы вы объяснили ей… Я хочу сказать, у меня не было выбора. Честное слово.
— Я прекрасно понимаю вас, не беспокойтесь. И Менчу тоже поймет.
Лицо инвалида озарилось улыбкой признательности.
— Я буду очень рад, если она поймет. На меня сильно давили… Да и предложение сеньора Монтегрифо оказалось весьма привлекательным. А кроме того, он предложил сделать хорошую рекламу картине, максимально осветить ее историю… — Он погладил свой плохо выбритый подбородок. — Должен сознаться, это тоже подействовало на меня. — Он тихонько вздохнул. — Ну и деньги, конечно…
Хулия указала на продолжавший крутиться проигрыватель:
— Вы всегда ставите Баха или это просто совпадение? В прошлый раз я тоже слышала эту музыку…
— «Приношение»? — Бельмонте, похоже, было приятно услышать это. — Я часто его слушаю. Это такое сложное и хитроумное произведение, что я до сих пор нет-нет да и открываю в нем для себя что-то неожиданное. — Он помедлил, точно вспоминая. — Известно ли вам, что существуют музыкальные темы, в которых будто бы подводится итог всей жизни?.. Это как зеркало, в которое смотришься… Вот, например, это сочинение: одна и та же тема исполняется разными голосами и в разных тональностях. Иногда даже в различном темпе, с нисходящими интервалами, а бывает, как бы с отступлением назад на несколько шагов… — Он наклонился в сторону проигрывателя и прислушался. — Вот, слышите?.. Понимаете? Начинает один голос, ведущий свою тему, затем вступает второй голос, который начинает на четыре тона выше или ниже по сравнению с первым, а первый, в свою очередь, подхватывает другую тему… Каждый голос вступает в какой-то свой, определенный момент — так же, как все происходит в жизни… А когда подключились все голоса, все правила кончаются. — Он широко, но печально улыбнулся собеседникам. — Как видите, полная аналогия со старостью.
Муньос указал на пустую стену.
— Этот одинокий гвоздь, — несколько резко сказал он, — похоже, тоже символизирует многое.
Бельмонте внимательно посмотрел на шахматиста, потом медленно кивнул.
— Это очень верно, — подтвердил он со вздохом. — И знаете что? Иногда я ловлю себя на том, что смотрю на это место, где раньше висела картина, и мне кажется, что я по-прежнему вижу ее. Ее уже нет, но я вижу. После стольких-то лет… — Он приложил палец ко лбу. — У меня вот тут все: персонажи, вещи, все до мельчайших подробностей… Я всегда особенно любил этот пейзаж за окном и выпуклое зеркало слева, в котором отражаются игроки.
— И доска, — уточнил Муньос.
— Да, правда, и доска. Часто, особенно в самом начале, когда моя бедная Ана только получила фламандскую доску в наследство, я на своих шахматах пытался проиграть эту партию…