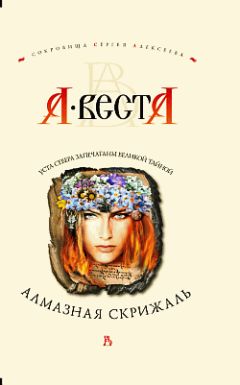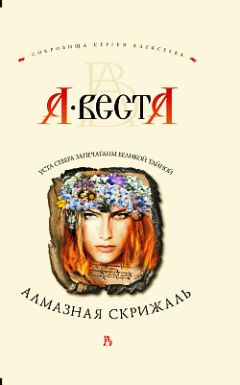И небо качнулось и сошло со своих стапелей, и поплыло, осыпая звезды, и тысячи раз всходило и падало солнце. На озеро вновь налетела короткая яростная гроза. Это была их свадьба в Ярилин день. И Дева Молния, и Громовик венчались в Небесной Сварге, и яростно любили, и сияли радугой, и проливались благодатным ливнем. В раскатах грома и вспышках молний сплетались их молодые, сильные тела, а там, в клокочущих грозовых высях, их души сочетались превечно и нерушимо. И женщина обнимала мужчину жарко, неистово, с последней откровенностью любви, сжигая мосты, сжигая память прошлого…
Они очнулись от муравьиного жжения и жара солнца.
Ненастье миновало. Страсть природы улеглась и казалась стыдным, ненужным безумием. Яркое небо, ласковая вода и белый песок. Солнце ластилось желтым тигренком. Сияющий рай…
Вадим сушил на солнце их пустые, как смятая кожура, одежды и был счастлив, как Адам на первозданном райском берегу. Но вот Гликерия…
Лика сидела на плоском камне, сжавшись, закрывшись руками, вся — как холодный твердый камушек. Он отряхнул от белого песка ее плечи, расплел косы, от одного взгляда на них у него прежде перехватывало дыхание. Расправил их по жемчужно-белой спине, потом встал перед ней на колени, взял ее бледное, горестное лицо в свои ладони, сцеловывая соль с ресниц и с милых, уже родных щек. Погладил исцарапанные, искусанные муравьями ноги, заласкивая боль.
— Прости, олененок, прости…
«Прости вековечную мужскую жестокость, ту, за которую не судят».
— А знаешь, — снова заговорил он, согревая дыханием ее колени, — у нас в Кемже старики говорили, что если мужик с бабой задумают шустрого да бойкого мальчонку родить, пусть для того на муравьиной куче помилуются… Это верная примета…
Лика вздохнула порывисто, словно навсегда освобождаясь от обиды, и прижалась к нему, спрятав лицо на его груди. Ослепнув от счастья, он подхватил ее на руки и закружил, высоко подняв к небу, чтобы и оно изумилось ее красоте.
Возвращались уже на закате. Издалека Лика заметила маленькую суетливую фигурку на берегу. Встревоженный и мрачный Герасим мерил шагами берег. Но волновался он не за свою непотопляемую лодку. Обостренным чутьем ревности он выхватывал неуловимые изменения в их лицах, фигурах, движениях, необратимую перемену, след космической катастрофы: таинственная женственная бледность, болезненная припухлость век и губ — у нее, и легкая, игривая сила и плохо скрываемое торжество — у него. Вадим Андреевич соскочил в воду, одним махом вытолкнул лодку носом на берег, на руках перенес Гликерию. Палатка уже была собрана для отъезда. Вадим пошел на гору проститься с отцом Гурием, подарить ему свой прорезиненный плащ и кое-что из вещей, незаменимых в лесном обиходе.
— Вы ничего не заметили, Вадим? — озабоченно спросил Петр Маркович, когда тот вприпрыжку спустился с холма.
— А что случилось, может быть, я брюки где-то порвал?
— Да нет. С брюками все в порядке… Странный он какой-то, этот монах, — поделился Петр Маркович. — Я сейчас палатку собирал, чувствую, что-то мешает, обернулся, а он стоит у меня за спиной и смотрит широко раскрытыми глазами. Я ему: «Батюшка, может, случилось что, я врач, помогу». А он мне: «Врач, исцелися сам…»
Истекали последние минуты перед отплытием. Беспечно поигрывая ножом, тренируя руку, Вадим Андреевич с размаху вогнал нож в корни ракиты.
— Не бросай в дерево, рука отсохнет… — мрачно заметил Герасим.
Но Вадим Андреевич ни на йоту не доверился мрачной неотвратимости этой приметы. Поглядывая на грозовое небо над холмом, на белый храм, он мысленно навсегда прощался с этим местом. «Ну, с Богом! Прощай, гостеприимный брег! Доплыть бы по такой волне… А завтра поутру — в район сдавать вещи… И мою затянувшуюся миссию можно считать завершенной».
С начертаньем белый камень
Мне вручил Архистратиг.
Н. Клюев
Ветер летел среди снежных пустынь. Он сорвался с ледяной шапки полюса, и неприкаянный дух разрушения гнал его над ледяным морем в венцах торосов, над пустой неоглядной тундрой, мимо спящих, заваленных снегом лесов и болот, мимо сдавленных льдами озер и вымерзших до дна речушек. Он выл на разные голоса, трубил в охотничьи рога, скулил и лаял, словно в поднебесье неслись призраки дикой охоты. Стаей перепуганных беженцев катились перед ним разорванные в клочья тучи, по низинам метались снежные вихри и покорно склонялись перед нашествием понурые северные леса. И лишь одна искра света сияла из бескрайней тьмы на его пути.
Бревна костра были выложены пылающей спиралью. И ветер споткнулся, закружился на месте, словно неукротимая сила скрутила его. Туман и обрывки туч свернулись в воронку, в магический зрачок тайфуна. Грозовая энергия полюса свилась в жгут, в ствол могучей молнии и устремились вниз.
Молнии заплясали вокруг костра, наполняя воздух дыханьем грозы. Зеленовато-синие всполохи беззвучно уходили в мерзлую землю.
У костра лежал человек. Светлые волосы смерзлись и оледенели. Веки пожухли, склеенные тонкой ледяной коркой. Тело было мертвым, закаменевшим на холоде. Постепенно оно оттаяло, посмертная гримаса сошла с лица, мышцы снова стали мягкими. Разряды молний сотрясли его пустую, погасшую оболочку. Скопившаяся в тканях «мертвая вода» впитывала живительные разряды.
Костер вспыхнул, раскрылся, как цветок, искры взлетели густым роем, на снегу заиграли алые всполохи. В огненный круг вбежала женщина, вокруг ее обнаженного тела струился тонкий радужный покров, похожий на полярное сияние. Резкий зимний ветер подхватил и раздул серебристый водопад ее волос. Тело ее затрепетало в беззвучном танце.
Женщина повторяла движения пламени, она взлетала над костром и низко припадала к земле, кружилась, как огненный вихрь, ее волосы струились под ветром и серебристыми кольцами ложились на мерзлую землю, когда она, прогнувшись в поясе, запрокидывалась назад. Он видел танец сверху; костер сиял, как широкое косматое солнце, и танец завораживал, манил, звал и вновь затягивал в огненный круговорот жизни. Всплесками рук, изгибами тела, бросками и кружениями женщина рассказывала о чем-то мучительно знакомом, страстном, желанном. Она была звездным огнем, и ледяным остывшим камнем, и чуткой волной, и резвой беспечной рыбкой, и гибким тростником, и плакучей ивой на ветру, и летящей над морем птицей, и смертельно раненным оленем, и легкой, зыбкой, как пламя, душой, бьющейся в тисках плоти. Танец говорил о страсти зачатия и муках рождения, о сладости зрелой любви и последних смертных объятиях матери Земли.
Огонь взметнулся выше, забушевал, разгоняя мрак. Женщина легко запрыгнула на раскаленную каменную плиту и пробежала по огню. Алые прозрачные угли рассыпались на тысячи искр. Огонь не причинил ей вреда, но тело ее засветилось ярче. Алый бешеный танец продолжался. Он даже услышал отдаленные звуки, первобытную музыку зимнего ветра и барабанный бой. От частых глухих ударов дрожал синий воздух поляны. Ха-тум-тум… Ха-тум-тум… — словно резкий выдох и стук сердца.
Его потянуло вниз, к огненной женщине, к ее ослепительной красоте. Грохот горного обвала настиг и смял его, он оказался свержен вниз и вновь пленен плотью. Он больше не видел костра. Слепая тьма и ледяная тяжесть нестерпимо давили и обжимали загнанную в тупик испуганную душу. Запертая в мертвом теле, она в ужасе металась в ледяной клетке. Первым вернулось ощущение нестерпимой боли. Но вновь повелительно и яростно забил барабан: ха-тум-тум… ха-тум-тум. Тело содрогнулось и выдохнуло, выдавило из груди мертвый застоялый воздух, и сердце затрепетало, как птица-подранок, и глухо ударило. Оттаявшее от жара костра тело вспоминало дыхание, его ритм и тысячи своих почти незаметных, согласованных движений. Проснувшаяся кровь упругими толчками наполняла тело.
Женщина услышала стук его сердца, выпрыгнула из пламени и легла рядом, тесно прижавшись к нему. Правой рукой она коснулась его ладони, и он ощутил жар ее пальцев, левую положила на лоб — рука была легка и прохладна. Боль ушла. Блаженство затопило тело, оно жило, дышало и медленно наливалось теплом. Сквозь горячие женские руки в него перетекала сила и жизнь. Женщина мягко коснулась его лица, поцеловала в губы, чуть раздвинув их бурую, омертвелую кору. Подула, даря живое дыхание, теплое, сильное, нежное, как вешний ветер. Ее сияющие глаза были последним, что видел он, погружаясь в сонный омут. Из глубины их шел звездный свет, и сияние этих очей утешало, обещало радость и жизнь…
Он так и не смог вспомнить наяву того обнаженного огненного танца. Только во сне изредка приходило странное видение, обдавая восторгом и жаром.
Он очнулся от слабой пульсирующей боли в груди, приоткрыл тяжелые веки; со всех сторон его обступали землистые сумеречные своды. Белый шерстяной плащ укрывал его до подбородка, под головой — сухой упругий мох. Это была маленькая пещера, скорее природная ниша, вымытая дождями в крутом склоне оврага или холма. На стенах пещеры искрился густой морозный иней. Над входом, как застывший водопад, блестел каскад прозрачных сосулек. Почему он неподвижно лежит в темной сводчатой норе? Почему лесная поляна и густые ели, видные в просвет, покрыты высоким снегом? В памяти мелькали несвязные обрывки: ночь, костер… Юрка… Он силился вспомнить происшедшее… Может быть, его сгреб медведь или…