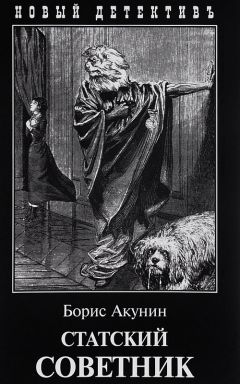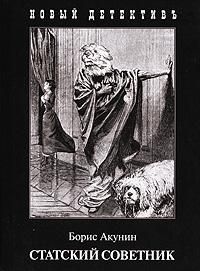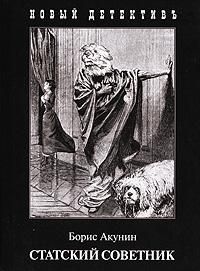— Впрочем, возможно, в аду, куда несомненно отправилась новопреставленная, именно такие и почитаются первейшими красотками, — философски заметил князь. — Однако наш план, Эраст Петрович, остается в силе. Сугроб справа, не забудьте.
Пожарский опаздывал.
Шесть минут десятого. Грин спрятал часы в карман шинели. Там же лежал «кольт», и пальцы плотно обхватили удобную рифленую рукоятку.
Не так уж плохи дела у революции, если сыскное начальство вынуждено встречаться конспиративно, тайком от собственных подчиненных. Вражеский лагерь охвачен тревогой и неуверенностью, там боятся собственной тени, никому не доверяют. И правильно делают.
Или догадываются про ТГ?
А всё просто: не может победить дело, сторонники которого больше всего пекутся о собственном благе. Вот почему торжество революции неизбежно.
Только ты до него не доживешь, напомнил себе Грин, чтобы загнать вглубь лазурь, после вчерашнего так и норовившую вылезти на поверхность. Ты — спичка. Ты и так горишь дольше обычного. А радость жизни ты исключил из своего существования сам.
Статский советник Фандорин сидел на соседней скамейке. Скучливо постукивал перчаткой по колену, рассматривал галок, прыгавших по ветвям старого дуба.
Сейчас этот красивый, щегольски одетый человек умрет. И никогда уже не узнать, о чем он думал в последние минуты своей жизни.
От неожиданной мысли Грин вздрогнул. Когда целишься во врага, нельзя думать про его мать и детей, напомнил он себе то, что не раз говорил Снегирю. Раз человек надел вражеский мундир — значит, превратился из мирного обывателя в солдата.
Шинель на Грине была толстая, хорошего сукна. Нобель принес из дому, у него отец — отставной генерал.
Игла прицепила Грину седые усы и бакенбарды. Отличная маскировка.
По дорожке шел Снегирь, одетый гимназистом. Ему полагалось проверить переулок — всё ли чисто. Проходя мимо, чуть кивнул и сел на скамейку возле Фандорина. Зачерпнул свежего снега, сунул в рот. Волнуется.
Нобель и Шварц скребли лопатами аллею. Емеля стоял по ту сторону решетки, изображал городового. Марат и Бобер, в чуйках и валенках, играли в свайку возле самого входа. Отличное время выбрали для беседы Пожарский и Фандорин. Ни гуляющих, ни даже прохожих.
— Хрен тебе, а не алтын! — крикнул Марат, отскакивая в сторону. — Накося, выкуси!
И, насвистывая двинулся по аллее. Руки небрежно сунул в карманы.
Это был сигнал. Значит, появился Пожарский.
Бобер кинутся за Маратом:
— Ты чё, ты чё! — крикнул Бобер (отличный, спокойный парень из бывших студентов). — Гони должок!
А за ними показался и долгожданный господин вице-директор.
В гвардейской шинели, белой свитской шапке, при сабле. Хорош конспиратор.
Пожарский остановился у входа в сквер, широко расставил ноги в сверкающих сапогах и, картинно ухватившись за портупею, крикнул:
— Господа нигилисты! Вы окружены со всех сторон! Рекомендую сдаваться!
И в ту же секунду проворно нырнул за ограду, исчез позади заснеженных кустов.
Грин оглянулся на Фандорина, но и статский советник, пробудившись от мечтательности, проявил удивительную прыткость. Схватил Снегиря за воротник, притянул к себе и вместе с ним зачем-то бросился в сугроб, возвышавшийся справа от скамейки.
Со всех сторон затрещало, загрохотало, загремело, будто кто-то с хрустом рвал напополам весь белый свет.
Грин увидел, как Марат, всплеснув руками, дернулся, словно от сильного толчка в спину, как Бобер стреляет из-под локтя куда-то вверх и вбок.
Выхватив из кармана «кольт», ринулся выручать Снегиря. Пулей сбило с головы шапку, чиркнуло по темени. Грин покачнулся, не устоял на ногах и рухнул в сугроб, что был слева от соседней скамейки.
Дальше случилось невероятное.
Сугроб оказался гораздо глубже, чем можно было вообразить по его внешнему виду. Что-то затрещало, на миг сделалось темно, а затем последовал весьма ощутимый удар о твердое. Сразу же сверху обрушилась белая лавина, и Грин забарахтался в ней, перестав понимать, что происходит.
Кое-как вскочив на ноги, он увидел, что стоит в глубокой яме, по грудь утонув в снегу. Было видно небо, облака, ветки дерева. Стрельба сделалась еще громче, отдельные выстрелы стали почти неразличимы, подхваченные и усиленные эхом.
Наверху шел бой, а он, стальной человек, отсиживался в щели!
Грин подпрыгнул, коснулся пальцами края ямы, но ухватиться было не за что. Тут обнаружилось, что при падении он уронил револьвер, и искать его в этой снежной каше представлялось делом долгим, а возможно, и безнадежным.
Неважно, только бы выбраться.
Он принялся остервенело утрамбовывать снег — руками, ногами, даже ягодицами. И тут вдруг пальба прекратилась.
От этой тишины Грину впервые за долгие годы стало страшно. А он думал, что никогда больше не ощутит этого знобкого, стискивающего сердце чувства.
Неужели все? Так быстро?
Он влез на утоптанный снег, высунул из ямы голову, но сразу присел. К ограде густой цепью шли люди в штатском, держа в руках дымящиеся карабины и револьверы.
Даже не застрелишься — не из чего. Сиди, как угодивший в яму волк, и жди, пока вытащат за шиворот.
Опустился на корточки, стал лихорадочно шарить в снегу. Только бы найти, только бы найти. Большего счастья Грин сейчас вообразить не мог.
Бесполезно. Револьвер, наверное, где-то там, на самом дне.
Грин развернулся и вдруг увидел черную дыру, уходившую куда-то вбок. Не раздумывая, шагнул в нее и понял, что это подземный ход: узкий, чуть выше человеческого роста, пропахший мерзлой землей.
Удивляться было некогда.
Он побежал в темноту, наталкиваясь плечами на стенки лаза.
Довольно скоро, шагов через пятьдесят, впереди забрезжил свет. Грин убыстрил бег и вдруг оказался в разрытой траншее. Она была огорожена досками, сверху над ней нависала каменная стена дома и вывеска «Мёбиус и сыновья. Колониальные товары».
Тут Грин вспомнил: в переулке, что выводил к скверу, была какая-то канава, а по краям — наскоро сколоченная изгородь. Вот оно что.
Он выбрался из ямы. В переулке было пусто, но из сквера доносился гул множества голосов.
Прижался к стене дома, выглянул.
Люди в штатском сволакивали тела на аллею. Грин увидел, как двое филеров тащат за ноги какого-то полицейского и не сразу понял, кто это, потому что полы завернувшейся шинели прикрывали убитому лицо. Из-за отворота выпала пухлая книжка в знакомом переплете. «Граф Монте-Кристо». Емеля взял с собой на акцию — боялся, вдруг не доведется вернуться на квартиру, и он не узнает, отомстил граф иудам или нет.
— Чего это, а? — раздался сзади напуганный голос.
Из подворотни высовывался дворник. В фартуке, с бляхой.
Посмотрел на засыпанного снегом человека с остановившимися глазами и виновато пояснил:
— Я ничего, сижу, не высовываюсь, как велено. Это вы кого, а? Хитровских? Или бонбистов?
— Бомбистов, — ответил Грин и быстро пошел по переулку.
Времени было совсем мало.
— Уходим, — сказал он открывшей дверь Игле. — Быстрее.
Она побледнела, но ни о чем спрашивать не стала — сразу кинулась обуваться.
Грин взял два револьвера, патроны, банку с гремучей смесью и несколько взрывателей. Готовые корпуса пришлось оставить.
Только когда спустились на улицу и благополучно свернули за угол, стало ясно, что квартира не обложена. Видно, полиция была уверена, что БГ сама придет в капкан, и решила воздержаться от наружного наблюдения, чтобы ненароком себя не выдать.
— Куда? — спросил Грин. — В гостиницу нельзя. Будут искать.
Поколебавшись, Игла сказала:
— Ко мне. Только… Ладно, сам увидишь.
Извозчику велела везти на Пречистенку, к дому графа Добринского.
Пока ехали, Грин вполголоса рассказал, что произошло в Брюсовском. Лицо у Иглы было неподвижное, но по щекам одна за другой катились слезы.
Сани остановились у старинных чугунных ворот, украшенных короной. За оградой виднелся двор и большой трехэтажный дворец, когда-то, наверное, пышный и нарядный, а ныне облупившийся и явно заброшенный.
— Там никто не живет, двери заколочены, — словно оправдываясь, объяснила Игла. — Как отец умер, я всех слуг отпустила. А продать его нельзя. Отец завещал дом моему сыну. Если будет. А если не будет, то после моей смерти — управе Георгиевского ордена…
Значит, про невесту Фокусника говорили правду, что графская дочь, рассеянно подумал Грин, чей мозг потихоньку начинал подбираться к главному.
Игла повела его мимо запертых ворот, вдоль решетки к маленькой пристройке с мезонином, выходившей крыльцом прямо на улицу.
— Здесь когда-то семейный лекарь жил, — сказала Игла. — А теперь я. Одна.
Но он уже не слушал.