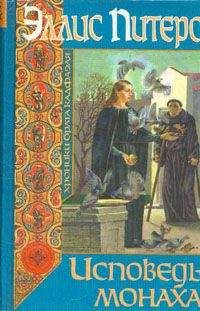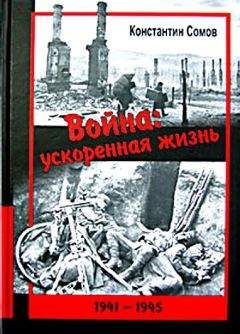— Отходил свое, бедняга, — сказал брат Эдмунд, невольно содрогнувшись при виде раздробленных ступней, которые Кадфаэль в эту минуту заботливо обмывал.
— Да, на своих ногах ему больше не ходить, — мрачно подтвердил Кадфаэль. Тем не менее, он продолжал скрупулезно собирать воедино, что еще можно было собрать.
Пока с ним не стряслась эта беда, ступни у брата Хэлвина были длинные, узкие, изящные, под стать всей его легкой, стройной фигуре. Острые обломки плиток оставили на них глубокие, рваные раны — где прорвав плоть до кости, а где и раздробив саму кость. Долго, очень долго пришлось извлекать окровавленные осколки и потом тщательно перевязывать каждую ступню так, чтобы придать ей хоть какое-то подобие прежней формы; затем на ноги надели наспех сделанные из войлока импровизированные колодки, выложив их внутри мягким тряпьем, чтобы ступни все время оставались неподвижными и могли заживать — если, конечно, до этого дойдет.
Все это время брат Хэлвин лежал безучастный к тому, что с ним делали, погруженный в какие-то неведомые глубины, куда не проникает ни свет, ни тьма земного мира, и только хрипло, надсадно дышал, но вот и дыхание постепенно стихло — только едва уловимый шелест, словно один-единственный лист, случайно задержавшийся на ветке, чуть колышется, колеблемый неслышным ветерком. Присутствующим показалось, что он умер. Но листок на ветке еще подрагивал, хотя так слабо, что и заметить было трудно.
— Если он придет в себя хоть на минуту, немедленно пошлите за мной, — распорядился аббат Радульфус и ушел, оставив их дежурить подле постели больного.
Брат Эдмунд удалился, чтобы немного поспать. А Кадфаэль остался на ночь вместе с братом Руном, самым молодым из монахов обители. Они расположились по обе стороны от ложа умирающего и не сводили глаз со спавшего глубоким сном брата, который не получил ни причастия, ни благословения, словом, не был подготовлен к смерти.
Немало лет прошло с тех пор, как Хэлвин вышел из-под попечения брата Кадфаэля и отправился на тяжелые физические работы в Гайе. Кадфаэль пристально вглядывался в его нынешние черты, вспоминая те, давние, почти забытые — как сильно и одновременно как мало он изменился! Да, крупным его, Хэлвина, не назовешь, хотя росту он повыше среднего, в кости тонкий, изящный даже, правда, теперь на костях у него больше жил и меньше мяса, чем когда он пришел в монастырь, совсем незрелым юнцом, еще не огрубевшим, не затвердевшим в суровой мужественности. Сейчас ему, должно быть, тридцать пять — тридцать шесть, тогда только стукнуло восемнадцать, и он был полон нежной, юношеской свежести. Кадфаэль помнил его удлиненное лицо, красивые сильные линии подбородка и скул, тонкие дуги бровей, почти черных по сравнению с копной вьющихся каштановых волос, которым он предпочел тонзуру. Лицо, запрокинутое к потолку, даже на фоне подушки было сейчас белее мела; ввалившиеся щеки и два глубоких колодца закрытых глаз стали синеватыми, как тени на снегу, да и вокруг запавших губ, прямо у них на глазах, начала проступать та же лиловатая синева. В ранние предрассветные часы, когда ручеек жизни бьется слабее всего, он испустит дух, а если нет — начнет исцеляться.
Напротив Кадфаэля по другую сторону кровати стоял на коленях брат Рун — сосредоточенный, но ничуть не страшащийся приближения смерти, и не потому, что смерть угрожала не ему; он знал, что и собственную смерть встретит так же спокойно. В полумраке каменных стен его чистое юное лицо, венчик белокурых волос на голове, голубые глаза и какая-то неподдельная искренность словно озаряли все вокруг добрым светом. Нужно было обладать непоколебимой, наивной верой, чтобы спокойно оставаться у постели умирающего, ощущая в своем сердце только бесконечную любовь и добро, и ни тени жалости. Сколько раз Кадфаэль видел, как к ним в обитель приходили молодые люди с печатью той же очарованной веры на челе, — и сколько раз он видел, как эта вера не выдерживала испытания временем, тускнела, разрушалась понемногу под гнетом простой и такой трудной обязанности: сохранить и пронести через годы лучшие душевные качества. Но юному Руну эта опасность не грозила. Святая Уинифред, пославшая ему избавление от физического увечья, конечно, не допустит, чтобы ее щедрый дар был обесценен духовным изъяном.
Ночь тянулась бесконечно, не принося никаких перемен: брат Хэлвин был по-прежнему недвижим и никаких видимых признаков жизни не обнаруживал. Но вот, уже перед самым рассветом, Рун наконец тихо сказал:
— Смотри, он шевельнулся!
Чуть заметная дрожь пробежала по застывшему лицу, темные брови сдвинулись, веки напряглись, реагируя на первые, пока еще смутные сигналы боли, губы на миг растянулись и на лице возникла гримаса страдания и беспокойства. Они ждали, как им показалось, долго, — бессильные что-либо предпринять, разве только вытереть мокрый лоб и дорожку слюны, вытекшей из угла запавшего рта.
С первыми проблесками неверного, отраженного снегом света брат Хэлвин открыл глаза — черные, как уголь, глядящие из глубоких синеватых впадин, — и пошевелил губами, издав едва уловимый звук, так что Руну пришлось наклониться и приставить ухо к самым его губам, только тогда он смог разобрать и вслух повторить услышанное.
— Исповедь… — выдохнул тот, кто стоял на пороге смерти. Больше ничего.
— Беги, позови отца аббата, — сказал Кадфаэль.
Рун бесшумно поспешил исполнить команду. Хэлвин постепенно приходил в себя, к нему возвращалась ясность сознания и ощущений, взгляд становился осмысленным — он уже понимал, где он и кого видит рядом, и с усилием собирал все остатки жизни и рассудка, дабы исполнить то, что ему казалось самым важным. По напряженным, побелевшим губам Кадфаэль видел, как стремительно накатывает на него боль, и пытался влить ему в рот немного маковой вытяжки, но Хэлвин только плотнее сжимал губы и отворачивал голову. Он не желал, чтобы что-то притупляло или заглушало его чувства, во всяком случае не сейчас, не до того, как он облегчит свою душу.
— Отец аббат скоро будет, — сказал Кадфаэль, склонившись к самой подушке. — Подожди, побереги силы.
Аббат Радульфус и правда уже входил в дверь, пригнув голову, чтобы не удариться о низкую притолоку. Он сел на табурет, с которого несколькими минутами раньше поднялся Рун, и наклонился над несчастным. Рун остался за дверью наготове, если понадобится его помощь. Дверь он тактично притворил. Кадфаэль встал, чтобы удалиться, но тут желтоватые искорки беспокойства вспыхнули в провалившихся глазах Хэлвина и по телу его пробежала быстрая судорога, раздался стон нестерпимой боли: казалось, он хотел поднять руку и удержать Кадфаэля, да не мог. Аббат пригнулся еще ниже, чтобы Хэлвин не только слышал его, но и видел.
— Я здесь, сын мой. Я тебя слушаю. Что тревожит тебя?
Хэлвин набрал в легкие воздух и задержал дыхание, словно накапливал побольше голоса.
— Я грешен… — вымолвил он. — Никому не рассказывал. — Слова давались ему с трудом, он говорил медленно, но вполне отчетливо. — Я виноват перед Кадфаэлем… давно… грешен… не покаялся.
Аббат взглянул на Кадфаэля, сидевшего с другой стороны кровати.
— Останься! Он так хочет. — Затем, снова обращаясь к Хэлвину, он коснулся его безжизненной руки и сказал: — Говори как можешь, мы тебя слушаем. Береги силы, говори мало, мы сумеем понять.
— Мой обет, — донеслось словно откуда-то издалека, — нечист… не вера привела… отчаяние!
— Многие приходят из ложных побуждений, — сказал аббат, — а остаются — из истинных. За те четыре года, что я возглавляю обитель, мне не в чем было тебя упрекнуть. Посему утешься: наверно, у господа были причины призвать тебя именно так, а не иначе.
— Я был на службе у де Клари в Гэльсе, — произнес слабый голос. — У госпожи де Клари — сеньор уехал тогда в святую Землю. Его дочь… — Повисла долгая пауза, пока он старательно, терпеливо собирался с силами, чтобы продолжать и перейти к главному — и худшему. — Я любил ее… и она меня тоже. Но ее мать… она отклонила мое сватовство. То, чего нам не позволили, мы взяли сами…
И снова долгая тишина. Посиневшие веки на минуту прикрыли горящие глаза в провалах черных глазниц.
— Мы были близки, — отчетливо сказал он. — В этом грехе я покаялся, но ее имя хранил в тайне. Госпожа прогнала меня. От отчаяния я подался сюда… думал, так не принесу никому нового горя. Но самое страшное было еще впереди!
Аббат уверенным жестом положил свою руку на неподвижную руку Хэлвина и крепко сжал ее: лицо на подушке как-то сразу осунулось, превратилось в серую маску, дрожь побежала по изувеченному телу, оно напряглось и безжизненно замерло.
— Отдохни! — сказал Радульфус, наклонясь к самому уху несчастного. — Не мучай себя. Господь слышит и несказанное.
Кадфаэлю, не сводившему с Хэлвина глаз, показалось, что его рука ответила на пожатие, — конечно, слабо, еле-еле. Он принес вино, настоянное на травах, которым смачивал губы больного, пока тот лежал без чувств, и влил несколько капель ему в рот — на этот раз Хэлвин не противился — жилы на худой шее напряглись, и он проглотил снадобье. Значит его час еще не пробил. У него еще есть время снять тяжесть с сердца. Ему снова дали немного вина, и постепенно серая маска опять превратилась в живую плоть, хотя страшно бледную и слабую. Когда он снова заговорил, голос звучал почти неслышно и глаза были закрыты.