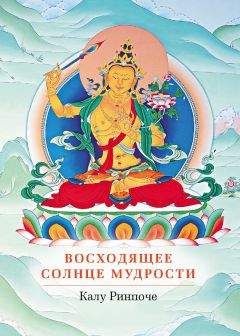– Граф, если не ошибаюсь, вы в Балканскую войну при генерале Скобелеве состояли? – спросил Красков. – Мы с ним, знаете ли, в Гродненском полку вместе польских мятежников усмиряли и сдружились на то время. Исключительно интересный человек. Да вот уж лет десять как не встречались.
– Мы виделись с ним перед моим отъездом. И Михаил Дмитриевич вспомнил о вас и велел кланяться. Простите, князь, моя вина, что запамятовал за своим падением. Он просил передать, что, коли государь снимет с военной службы, к вам на отдых будет проситься. Тяжело ему сейчас. Немного духом упал. Михаил Дмитриевич – выдающийся командир, редкой выносливости и спокойствия человек. В бою он всегда носит белый мундир, конь его всегда белой масти, а на голове белая фуражка. Мы прозвали его за это «белый генерал». И даже турки его звали так же. Уважали.
Граф замолчал, вспоминая один момент, очень личный, который потряс его. Когда Скобелев понял, что подкрепления ждать бесполезно, что большая часть его солдат в ближайшие часы будет уничтожена… Генерал спрыгнул с коня, медленно подошел к деревьям, немного походил среди них, будто искал что-то. Остановился около небольшой березы. Постоял немного подле нее, а потом… обнял. Он обнимал ее, как обнимают мать, зная, что никогда ее больше не увидит. Сильно, мучительно. Все это длилось мгновение. Затем он вернулся и приказал графу строить отряды. А Орлов понял, почувствовал, что генерал только что обнимал Родину, Россию, быть может прощаясь с ней… И еще отчего-то понял, что генерал почти трагически одинок.
– Генерал многому научил меня за два года, что мы были вместе. Одиночеству прежде всего…
– Одиночеству? – удивился Никольский, согласно кивая на предложение лакея подлить ему в кофе коньяка.
– Да, именно одиночеству, – подтвердил граф. – Не такому, в котором душа умирает от холода и тщетности попыток согреться чьим-то взором, прикосновением или… жалостью. Не такому.
Он бросил в тарелку скатанный за эти секунды молчания мякиш хлеба и продолжал, отломив от кусочка еще один, опять катая его между красивых, чуть нервных сейчас пальцев:
– Такому одиночеству, в котором человек становится ответственен за то, что он делает в этой жизни и как он делает. Мы, видите ли, господа, с рождения приучены на кого-то надеяться. За нами ходят мамки, няньки, слуги, гувернеры. Мы подстрахованы состоянием наших отцов и дедов. Наши судьбы решают родители, дядюшки, крестные. Дай Бог, если люди эти мудры, чтобы направить неокрепшую душу туда, куда определяет ее природная склонность. Как мне, например, выпало счастье иметь таких воспитателей. Коли нет, так идет человек по предсказанной и назначенной не им дорожке. Опять же советы, просьбы, поклоны, помощь не тех, так других. Не родных, так друзей. И слаб человек становится, бесхребетен. Слаб на принятие решений, на взятие ответственности за свои поступки, мысли. Всяко кто-то что-то посоветует, а я так и сделаю. А может, кто еще и за меня что сделает. А может, и вообще ничего делать не надо. Живет чужим умом, делает чужими руками и в гроб уходит бессовестно по отношению к жизни своей и бесследно. Большинство нас таких. А если принять веру, что ты одинок, совсем одинок. Что у тебя есть только ты и никого больше в целом мире. Только твое тело, только твой ум. И ты можешь пользоваться только ими. Воздать им должное и не губить, а тренировать. И не надеяться ни на кого, и доверять свою жизнь только самому себе. С момента, когда общество признает в тебе человека, способного силой своего воспитания и образования самому идти в жизнь, он должен признать в себе это одиночество. Как свободу, в которой волен сам принимать решения, сам исполнять их и быть ответственным за те решения, которые он принял. А также, – голос графа вдруг стал тише, – принять те последствия, которые эти решения принесут. Тогда, господа, мы получим сильных людей. Тех, кто может помочь слабым. На кого могут опереться и кому могут доверить, например, командовать армией.
Второй мякиш полетел в тарелку, и граф мягко улыбнулся, заметив, какое задумчивое впечатление он произвел на присутствующих, и почувствовал что-то вроде раскаяния.
– Простите меня за столь серьезную тему. Она на самом деле хороша и не так мрачна, как может показаться с первого взгляда. Во всяком случае, мне осознание такого правильного одиночества помогло стать многим сильнее духом, чем я когда-то был.
Доктор вздохнул:
– Верно, граф. Вы все верно говорили. И не тема мрачна, а то мрачно, в какой праздности мы живем. Без мечтаний, без направлений. Ото дня ко дню все то же, все те же. И если по молодости еще какие-то фантазии и подвиги в голове вертятся, и дух кипит, и готов моря-океаны переплыть, сады насадить, голодных накормить, то лет этак через десять – пятнадцать размеренной, предсказуемой жизни подвигом будешь считать почитывание революционных книжек да поездку в соседнюю губернию. А потом уж и помирать, и вспомнить нечего. Хотя чаще всего вот эти-то детские мечтания и вспоминаются. Как блаженство. И плакать лишь остается, что не только не съездил за море-океаны, да даже вот и цветочков не насадил да и лишнюю копейку на хлеб нищему жалел. Эх…
Завыла собака на дворе, и Наташа с отцом будто очнулись. За ужином и разговорами прошло, оказывается, часа три. Доктор, вспомнив о своих обязанностях, откланялся и уехал. Кофе был допит, и граф тоже собрался домой. Наташа в глубине души даже подосадовала, что нельзя продлить этот странный вечер. А так бы хотелось. Граф Саша был необычен. А все необычное было обречено на Наташино внимание.
– А что же это тетушка ваша? – вдруг спохватился Николай Никитич на пороге гостиной, – Ведь тоже собиралась приехать?
– Да тетушка мебель неудачно выбросила, – засмеялся граф.
Наташа с отцом переглянулись, и у обоих мелькнула одинаковая мысль: «Заговаривается Саша, головой ведь все-таки ударился…»
Видя недоуменные взгляды, граф поспешил объяснить:
– Тетушка старьевщика наняла, чтоб негодную мебель вывезти и продать. А старьевщик вместе со старою мебелью взял и вывез чайный столик из тетушкиной гостиной. Его на время из гостиной на веранду только сегодня днем переставили. Тетушка теперь лежит и переживает – хороший столик был, гарнитурный, редкого красного дерева. Поэтому извинялась, что приехать не сможет. Я со своими приключениями запамятовал вам сказать…
– А что же старьевщика не искали? – поинтересовался Николай Никитич.
– Ищем. Я поиск перед отъездом к вам организовал. Говорили, что вроде видели мужика с подводой в четырех верстах отсюда. Может, нашли уже, а может, и сам объявится, когда поймет ошибку. Испугается.
– Да продаст он все вместе со столиком, да еще втридорога запросит, – трезво рассудил Николай Никитич. – Завтра навещу вашу тетушку, успокою.
– Николай Никитич, Наталья Николаевна, благодарю за полученное удовольствие от знакомства с вами!
«Как официально!» – подумала Наташа. Граф протянул ей руку, Наташа вложила в нее свою. Прикосновение губ, чуть медлящих в поцелуе, легкая щекотка от усов, замершая секунда вне мыслей, секунда во вспышке наполненным будущим, как будто счастьем, пространстве, и… граф выпрямился и еще раз поклонился, глядя Наташе прямо в глаза:
– Спасибо за вашу доброту и участие. Я безмерно рад, что оказался здесь, и очень надеюсь продолжить наше знакомство… – Глаза его смотрели так искренне, так хорошо, что Наташа улыбнулась Орлову с чувством почти что дружеским.
* * *
Как задумчив был граф Саша по дороге домой! Неожиданные, почти забытые душевные движения смогла вызвать в нем княжна Наташа.
Пребывание в Европе изменило его тогда еще юношеский внутренний мир, приглушив яркость эмоций, поумерив пылкость чувств, внеся в них здоровую долю иронии как по отношению к самому себе, так и к окружающим. Армия же добавила свое влияние и научила проявлять внешнюю сдержанность, несмотря ни на какие внутренние бури. Ум постоянно стоял на страже эмоций, и его натура, достаточно пылкая от природы, томилась много лет в этой сдержанности, даже почти холодности. Граф не позволял ей вырваться на свободу, да и случая, наверное, не было. Не появилась еще та женщина, из-за которой его сердце бы встрепенулось и забилось часто, не было еще такого боя, который захватил бы его и понес безрассудно, не нашел он еще той земли, о которой мечтал в детстве, где он смог бы вспомнить себя восторженным и искренним мальчиком.
А сегодняшний вечер… Он и забыл, что можно чувствовать себя так просто, а говорить и смеяться так искренне. Ему было хорошо сегодня. «Наташа Краскова, – думал граф, прикрыв глаза и откинувшись на спинку сиденья. – Только подумать, что в этой губернии вырос такой самобытный цветок, не похожий на васильки и ромашки, произраставшие здесь с незапамятных времен. И ведь есть в княжне что-то еще… есть что-то такое… Бесенок!» – отчего-то пронеслось в голове, и граф, от души потянувшись, высунулся из коляски, подставив лицо теплому ветру, и подумалось ему, и почувствовалось опять: «Как хорошо!»