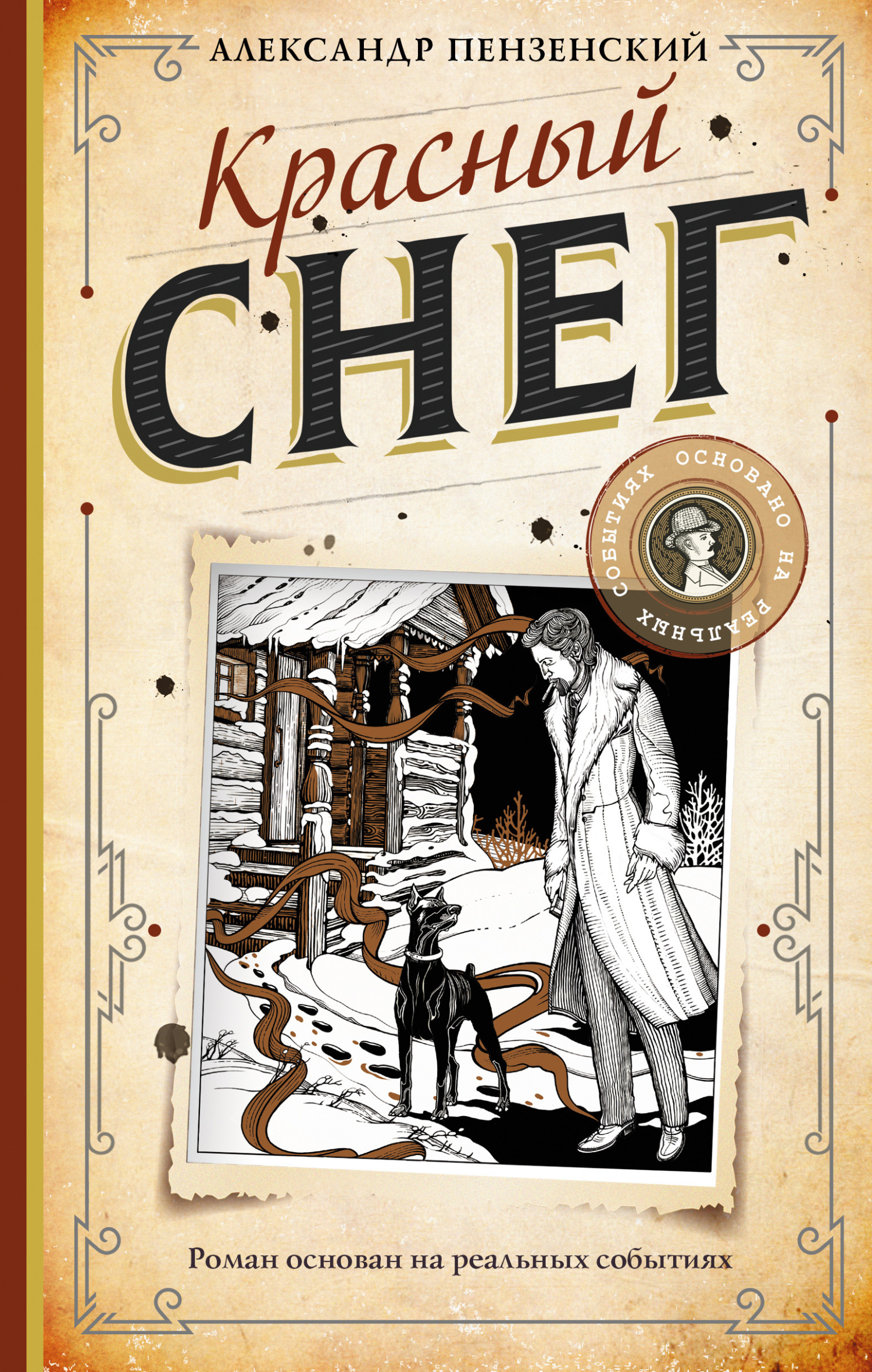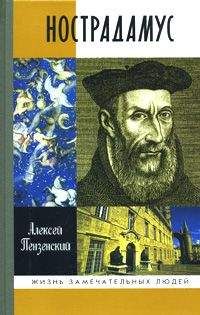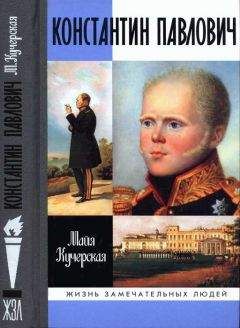и звал кого-то. А может, никого и не было.
Ночью к серебристой лужице на полу из-за печки выбралась Мурка, уселась прямо в луче лунного света, умылась как следует, внимательно посмотрела на хозяйку и вдруг спросила:
– Молчишь? Ну-ну. Молодец, молчи.
И снова спряталась в темноту.
Днем – если это был день – приходил Устин. Стучал в окно, в дверь, уговаривал голосом брата Ильи:
– Стеша? Стешенька? Ох, матушка-заступница, случилось что? Открой, дочка, не молчи.
Молчи! Молчи! Стеша закрылась иконой, спряталась за образом – и ушел проклятый боров!
А ночью пришел Николай. Коленька. Стоял у порога, безмолвный, смотрел на нее укоризненно. Она хотела сказать, что не виновата. Что сберегла себя, выгнала Устина, что заступилась за нее Божья Матерь, оборонила. Да нельзя говорить-то! Молчи! Так и ушел суженый, не проронив ни слова и ни слова не услышав. Даже дверью не скрипнул.
А лишь засерело за окном, как хлопнула дверь, распахнулась. В проеме силуэт громадный, ужасный, топор в руке! Но Стеше уже не страшно было. Потому как не одна она была теперь. Поднялась мороку навстречу, выпрямилась, вознесла над головой образ сияющий – и выронило чудище топор, рухнуло на колени!
* * *
А Илья стоял на коленях, смотрел на полуголую Стешу, на трясущуюся в ее руках икону – и не мог вспомнить ни одной молитвы. Только и вертелось в голове: хорошо, что один пошел, не позвал никого на подмогу.
Наконец, опомнившись от первого потрясения, он, покряхтывая, поднялся на ноги, затворил на задвижку дверь на крыльце – в горницу-то он топором сковырнул, сразу не починишь, – вернулся в комнату.
– Что случилось, дочка?
Но Стеша продолжала смотреть сквозь него, сжимая икону. Дьяк, краснея, запахнул рваную одежду, опустил девушке руки, потянул икону. Но она замычала, вырвалась, прижалась к стене.
– Ну держи, милая, держи. Давай токмо вот сюда перейдем, чего на полу-то.
Илья осторожно поднял девушку на ноги, довел до кровати, усадил. Она не сопротивлялась, будто тряпичная куколка, ватой начиненная, только губами шевелила беззвучно. А дьяк осмотрел горенку, покачал головой, засуетился. Притер пол, поскоблил ножом масляное пятно под иконами, заправил лампадку.
– Спички-то где, дочка?
Стеша, внимательно до этого наблюдавшая за хлопотами Илья, вздрогнула, уже более ясным взглядом огляделась, плотнее завернулась в порванную кофточку, подошла к столу, достала из-за икон коробок, подала дьячку.
– Благодарствую.
С минуту оба смотрели молча на дрожащий огонек, а потом Стеша поставила на полку икону, что держала у груди, вернулась к кровати, откинула крышку сундука, начала срывать с себя лохмотья. Илья зажмурился, отвернулся, а когда открыл глаза – не сдержался, охнул. Во всем черном, будто монашка, в плотно повязанном до самых глаз платке, бледная, со сжатыми в тонкую нитку губами, на него смотрела совершенно незнакомая женщина. Лишь выбившаяся из-под платка золотая прядка осталась от прежней Стеши Лукиной.
* * *
12 декабря 1912 года. Санкт-Петербург, Мойка. 10 часов 37 минут
– Зинаида Ильинична, – подняла глаза Стеша, – можно стакан воды, пожалуйста?
Зина вскочила, всплеснула руками.
– Ох, простите, я сейчас чай организую. Или кофе?
Но Стеша покачала головой.
– Просто воды. Спасибо.
Все время этой странной исповеди Маршал, нахмурившись, смотрел на рассказчицу. Теперь же, воспользовавшись паузой, тихо спросил:
– Получается, что Устин вас не насиловал?
– Не сумел, – кивнула Стеша.
– Почему же вы не рассказали Боровнину?
– Рассказала. Да поздно. Спасибо, Зинаида Ильинична. – Она взяла стакан, мелкими глотками выпила до дна, протянула Зине. – В ту ночь я долго не спала. Будто чувствовала. Ох, кабы знать… После случая с Устином, спасения моего чудесного, я будто знак увидела: молчи, дура, цела будешь. И все хорошо будет. Хотя… Это я уже задним умом так решила, а тогда… Тогда просто сознание помутилось, оттого и молчала, и молилась. Он же приходил ко мне, Николай. А мне страшно стало. Боялась, что слово оброню – и он оборотится Устином. Так и жила все годы в тумане каком-то, в мареве лампадном. А в ту ночь, когда… Когда натворил все Николай…
* * *
21 февраля 1912 года. Деревня Поповщина, Порховский уезд Псковской губернии. 3 часа 57 минут
За окном под чьими-то тяжелыми шагами захрустел снег, и почти сразу хлопнула дверь на крыльце, скрипнула в сенях половица – и на пороге возник он. Николай! Господи, откуда? Сколько лет, и опять этот сон!
Но «сон» шагнул в горницу, стащил с головы картуз.
– Ну здравствуйте, Степанида Саввична.
Она молча подошла к Николаю, убрала закрывавшую ему глаза челку, погладила по голове. Пальцы нащупали что-то мокрое и горячее. Кровь! Он перехватил ее руку.
– Набери снега в ведро. Вишь, крепко меня приложили.
Пока она топила на печке воду и рвала на бинты нижнюю белую рубашку, Николай бросил на пол мешок, что все это время держал в руке, затолкал его ногой под кровать, стащил тужурку, хотел было и сам плюхнуться на постель, но не решился, опустился на лавку у печки, прислонившись спиной к ее теплому боку, стащил сапоги, приложил к ране платок со снегом и блаженно закрыл глаза.
– Намерзся я за ночь, Стешенька. Как бы пальцы на ногах не потерять.
Стеша достала из висящего на гвозде тулупчика пуховые варежки, опустилась на колени у ног Николая, размотала мокрые портянки и принялась растирать рукавичками побелевшие ступни. Боровнин поначалу молчал, потом застонал – в онемевшие пальцы возвращалась чувствительность. Стеша терла до тех пор, пока обморозная белизна не порозовела. Потом достала из сундука пару суконных носков, натянула на Николая.
Тот с трудом открыл глаза, посмотрел на девушку.
– Так и молчишь? Все Боженьке своему молишься? Отмолил я тебя… Сам… Без Боженьки и без святых его… Отмолил… Сам… Я… Сам… Воздал… За все…
Он уронил голову на грудь, задышал медленно. Уснул. Стеша попробовала было растолкать его, переложить на кровать – Николай только завалился на бок, но так и не проснулся. Но когда она принялась промывать рану на затылке, Боровнин снова застонал, открыл глаза. Тогда Стеша потянула его за руку, пересадила на кровать, и только закончила перевязывать голову, как Николай уткнулся в подушку и снова затих.
Стеша подобрала портянки, расстелила на печи. Попробовала вытащить из-под спящего одеяло, не вышло. Тогда подняла с пола тужурку, накинула Николаю на плечи, а торчащие ноги укрыла своим тулупчиком. Сама села к столу, долго смотрела на иконы, будто мысленно разговаривая с ними. Потом прислонилась к стене, закрыла глаза.
* * *
21 февраля 1912 года. Деревня Поповщина, Порховский уезд Псковской губернии. 14 часов 46