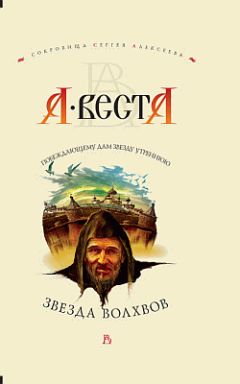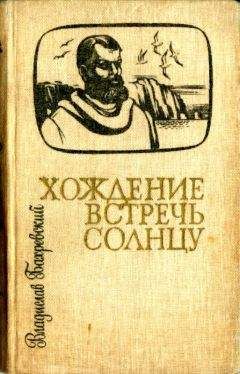Зину хорошо знал весь неорганизованный мужской элемент городка, и милиционеры не были исключением. Свистом и призывным ржанием охранники из числа суточного наряда принялись зазывать «Резиновую Зину» в каптерку. Если верить слухам, престарелый немецкий бизнесмен выкупил ее у чеченцев за крупные бабки, на которые можно было бы скупить на корню добрую половину городка. Поговаривали, что немец крепко втюрился в русскую красавицу. В первый же день их знакомства он вызвал из столицы дорогого доктора, и тот крепко-накрепко купировал ее алкогольную привязанность. После благодетель привел в порядок ее гардероб. От покоя и сытости Зина быстро посветлела лицом и налилась телом.
Кому рассказать, смех один, за все дни и ночи немчура и пальцем не тронул Зину, но каждый вечер перед сном она читала ему русские сказки из большой книги с картинками. В полосатом колпачке и бумазейной пижамке Курт походил на толстощекого седенького гнома. Он мирно засыпал уже на тридцатой странице под сказ о безотрадной судьбе Царевны-лягушки и беспримерной наглости Кощеевой.
В честь прибытия Зины в дежурке наскоро накрыли банкетный стол. Новое вполне целомудренное житие столь украсило ее, что при одном взгляде на Зину у охранников поднимался гемоглобин, но на вежливые заигрывания Зина не реагировала, всякий раз предлагая выпить «за любовь».
Часам к одиннадцати охранники изолятора сладко посапывали там, где их настиг Морфей. Действия снотворного, подмешанного в лучшее баварское пиво, должно было хватить на четверть суток крепкого и здорового сна.
В половине двенадцатого в камере номер восемь загремел замок. Дверь распахнулась, и на пороге возник выразительный женский силуэт.
— Зина? — Севергин вскочил с койки.
— Иди… — прошептала Зина. — Выход свободен. В дежурке — саперная лопатка, фонарики, фляга с водой…
Будимир, ничего не понимая, глазел на яркое видение.
— Подожди, Егор, выслушай, — задыхаясь от волнения, Зина поймала руку Егора и покаянно потянулась губами.
Севергин остановился, в сердце шевельнулись жалость и прощение. Чтобы не видеть ее слез, он прижал к груди и укрыл в ладонях ее заблудшую голову.
— Я хотела, хотела тебя дождаться, — всхлипывая, объясняла она то давнее, уже позабытое им горе. — А тут мамка заболела. Я думала в городе устроиться… Я же тогда и жизни-то этой собачьей совсем не знала… Решила — пойду в журнальные модели или секретаршей оформлюсь. Но обломилось… Везде прописка нужна. Жила на вокзале, от голода уже мотало, цены-то в этой гребаной Москве — офигенные. Тут он ко мне и подкатил… Мужик, гладкий такой, при галстучке, предложил работу в иностранной фирме, напоил, накормил, а потом сказал, что хочет показать меня шефу, посадил в машину и повез за город. Я впервые за пять дней поела и тут же стала засыпать. Очнулась уже в бане с шестью голыми мужиками. Одного из них ты знаешь.
Зина умолкла, словно от ненависти у нее остановилось дыханье.
— Кто он?
— Шпалера, — выдохнула Зина. — Я тогда не знала, кто он такой, догадалась, что он шишка, только когда попала в его эскорт. Нас четверо оказалось. Для нас кирпичный особняк за городом сняли. Все, что нужно, прямо на дом привозили. Он контракты заключал, а мы его гостям досуг в Сандунах обеспечивали… Что сказать… Ели-пили вволю. Только девки быстро от такой жизни с копыт падали. Тогда завозили подальше от Москвы и прямо на трассе бросали. Авось кто-нибудь подберет, и в тот же вечер новенькую приводили. Через полгода и меня на обочину выкинули. Я домой пришлепала — матери уже в живых нет, дом сожгли. Пришла сюда, к вокзалу. А тут смотрю: портретище в половину площади висит. Это он, Шпалера, в депутаты пролез. Я в тот портрет туфлей запустила, потом от милиции босиком удирала. Кавказцы меня подобрали, посадили на тачку. Они паленой водкой по всей области торговали. Почти год возили меня по хуторам, одиноким фермерам — на ночь сдавали. Что смотришь? Презираешь? Да лучше дать трем озверевшим от водки фермерам, чем одному лощеному мужику с депутатским значком!
— Я не виню тебя, Зина… Ну а теперь-то ты как?
— Ой, чуть не забыла. Тебе привет от Куртика. Это он охрану до утра снял.
— Ты и с ним, как с фермером?
— Нет, Куртику я сказки читаю на ночь. Русские. Только у него тоже причуды есть — в сарафан меня одел и в кокошник. «Я, — говорит, — Россию люблю. И ты — тоже Россия!»
* * *
На колокольне ударил колокол. Южные врата собора распахнулись, и на солею ступил высокий старец в одеждах схимника. Из-под черного, низко надвинутого куколя сверкали молнии. Бледный и грозный, он взглядом смел с амвона владыку Валерия.
— Феодор! Батюшка! Вышел из затвора, заступник, — по-женски ахнула толпа и упала на колени.
Феодор на три стороны поклонился людям и заговорил. От близких раскатов грома вздрагивали стены, и храм гудел, как колокол. Голос схимника, подхваченный земной дрожью, спорил с громом, и стены храма размыкались, и могучий поток молитв уходил в грозовое небо. Сгрудившись у Царских Врат, затаив дыханье, слушали люди Феодора и узнавали в его словах давно чаемую правду. Она звенела в простых и ясных словах старца, внезапно возникшего из векового мрака и молчания склепа.
— В моих руках, искренние мои, подлинное завещание старца Досифея. — В правой ладони схимника блеснул старинный ковчежец, в левой он держал книгу с золотыми листами. — Неисповедимыми путями футляр с завещанием и златая книга оказались под корнями молодого кедра. Сей кедр был приготовлен к посадке в святую землю на склоне Утеса. Несколько дней назад ковчег с завещанием был тайно изъят из хранилища, но по воле Божьей даже зло, в конечном счете, служит добру.
А сейчас я исповедую перед вами, искренние мои, свои жестокие и нераскаянные грехи и покаюсь за всех. За свое долгое молчание и покорность. За молчание церкви по поводу расстрела у Белого дома, за молчание о ковровых бомбежках в Чечне. В ту минуту, когда с лица земли стирались города, мы освящали новые храмы. Мы молчали о голодных обмороках учителей, о глуме и осмеянии, которому подвергли русский народ. Мы отреклись от правды. Мы до сих пор боимся причислить к лику святых наших убиенных парней, воинов новомучеников, не снявших креста перед сворой сатанинской. Первый шаг к спасению прост: только пожелать быть лучше! Господь и в намерении целует. Но сказать правду сегодня равносильно покаянию.
Надо признать, что понимание истинного монашества ныне почти утрачено нами. Даже мы, монахи, позабыли, что суть монашеской жизни — есть Любовь. Монах есть исполнитель всех заповедей Божьих. Но все заповеди, данные нам от века, сводятся к двум. Первая из них: «Возлюби Бога всем сердцем твоим, всею душою твоею и всею крепостию твоею». И вторая: «Люби ближнего твоего, как самого себя». Эти две заповеди совмещают в себе весь закон, и вся жизнь монаха есть эта надмирная любовь и клятва. Именно таким иноком и был Досифей. По любви его великой к людям и ко всей живой твари являлись чудеса и дивные исцеления, в сушь отворялись кладези и сходили наземь благодатные дожди. Из жития Досифея известно, что сей муж, никогда не открывал лица своего и видом был подобен отроку. Власы имел долгие, русые, а голос медвян, яко отроч, а брады не имел совсем. Странное описание для святого отца… И были к тому причины: Преподобный Досифей-чудотворец был женщиной!
* * *
Вдвоем Севергин и Будимир легко преодолели ограду на Царевом лугу и подошли к лазу, в который когда-то спускалась Лада. Теперь они уверенно двигались в глубину подземелья. Могильный мрак расступался перед их энергичным движением. Они шли довольно долго, пока не поняли, что описали широкий круг.
— Без карты — кранты! — выдохнул Севергин. — Я тут уже плутал, видишь отметки? Здесь сотни ходов, жизни не хватит…
— Тебе что, в зону идти охота? — буркнул Будимир. — Отдохнем, и снова туда. Здесь наше с тобой спасение. Нюхом бери, третьим глазом смотри, но найди!
За несколько часов они обследовали два перехода, закончившихся тупиком. Вымотанные броском, остановились на короткий отдых.
— Слышишь? — насторожился Будимир.
— Нет. — Севергин сдержал шумное дыханье, слушая звенящую тишину.
— Кто-то поет или молится.
— Плачет…
— Это там? Скорее туда!
Слабый человеческий голос проникал сквозь стены; тягостный, мертвенный, словно умирал и все не мог расстаться с жизнью мученик этой горы, то ли заточенный столетия назад разбойник, которого не принимает земля, то ли сугубый праведник, страдающий за други своя, и душа его исходила из тела в молитвах и стонах.
— Эй, кто здесь? — спросил Севергин, чувствуя, как шевелятся волосы и по спине вниз бежит острый холодок.
Будимир простукал стену:
— Есть тут кто?
— Точно! Здесь!!!