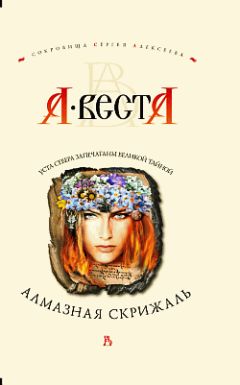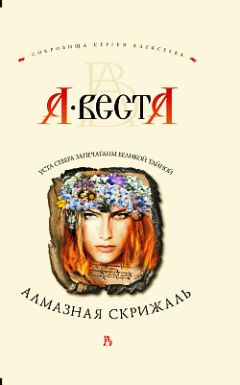Парень оттолкнул женщину и двинулся на Лику.
— Стой, стрелять буду! — Лика, преодолевая дрожь в коленях и головокружение, чувствуя киношную слабость угрозы, направила пистолет в наглое, растекающееся лицо. И оно вдруг заулыбалось, блестко играя желтым зубом.
— Да ладно, я познакомиться… — бритый ударил себя по раскоряченным ляжкам и, притоптывая, дернулся в пляс. Придурковато виляя задом, он наступал на Лику, широко раскинув руки, словно готовясь обнять ее. В игриво трясущихся кистях блеснуло лезвие.
Увидев нож, женщина завизжала по-заячьи отчаянно.
Лязгнула дверь тамбура. В вагон ввалились охранники в сером камуфляже: черные береты намертво прибиты кокардами к дремучим надбровьям. Огромный детина толкнул Лику, вывернул руку с пистолетом. Пистолет шлепнулся на пол. Вцепившись в волосы, он заломил ее голову, словно хотел опрокинуть навзничь.
— Отпусти, больно… — сквозь обморочную боль хрипела Лика. На запястье клацнул наручник.
— Сука… стрельнуть меня хотела, — парень по-свойски тряс руку милиционерам.
Измятая женщина, до сих пор испуганно водившая глазами по лицам охранников, вдруг опрометью бросилась в тамбур. Лязгнула дверь поезда, словно разрубая напополам Ликину жизнь. Милиционер, державший Лику, выругался — ушел ценный свидетель происшествия.
У бритого спросили документы. Он зашарил по карманам, резко дернулся, как в припадке, и спринтерским бегом рванул прочь. Громыхая сапогами, за ним ринулась охрана.
Лику повели по вагонам, жалкую, скрученную. На нее испуганно глазели случайные пассажиры, обшаривали взглядами, укоризненно качали головами. Этот взгляд она почувствовала отдельно, словно процарапали острым шилом по открытой щеке и шее. Она с трудом повернула голову, на нее смотрел пассажир в плаще из брезента. Он как-то ухитрился обогнать конвой и теперь, видимо, тоже собирался выходить.
Двое охранников волокли бегуна, голова его болталась, как у мертвой курицы. Его подтащили ближе — до пояса он был в темной густой крови. Поезд резко затормозил, двери распахнулись. Милиционер вытолкнул Лику из вагона, следом с высоких ступеней стащили бритого парня. Двери-челюсти захлопнулись. За пыльным стеклом тамбура мелькнуло мертвенное лицо. Человек без усилий отжал двери ладонями и почти протиснулся, но двери вновь сомкнулись, сжав его плечи. Поезд с лязгом и скрежетом набрал скорость, и удручающее видение скрылось.
Камера в этот час пустовала. Лика боялась прикоснуться к липким, влажным стенам, так и стояла посередине, опустив руки, сжатые наручниками. Через два часа в замке лязгнули ключи, вошел охранник.
— На допрос, — буркнул он, оглядывая девушку.
Серые сводчатые потолки милицейского каземата давили тяжестью, пригнетая к земле ее прежде горделиво откинутые плечи. Мучительно жгло запястья, стертые наручниками.
— Стой, — конвоир, тяжело сопя, привалил ее к стене и, задрав кофточку, зашарил по ее телу, успевая придерживать маленький черный автомат. Это был его личный «обыск». Пыхтя, он силился засунуть ладонь под ремешок ее джинсов. На миг Лика омертвела. Отупев от бессонных ночей у кровати Вадима, она уже не отличала явь от сна. Перед глазами елозила залитая потом тельняшка, рыжий, проволочный волос колол лицо. «Стоять, овца», — долетел до нее сиплый шепот. От этого слова что-то вздрогнуло и разорвалось в ней. Лика ослепла от бешеной ярости. Резко разогнувшись, она с визгом ударила головой в подбородок конвоира, согнутым коленом саданула в пах. Было слышно, как лязгнули зубы; охранник сдавленно взвыл, скорчился и отпрянул от Лики.
— Ответишь, сука гладкая, — захлебываясь, прохрипел он.
— Что там, прапорщик? — властный окрик в конце коридора отбросил скорченную тушу на метр от Лики. Шепотом матерясь, он повел пленницу туда, где из распахнутых дверей сочился белый мертвенный свет.
Лика робко присела на вытертый коленкор стула. Лицо ее потемнело и опало, глаза воспаленно блестели. Губы, спеченные жаждой и стыдом, растрескались и горели. Сбитая кофточка в темных пятнах пота, в жгучей ржавой пыли разорвана на плече. Пышная коса свалялась. Выбившиеся тонкие пряди липли к мокрому горящему лбу, она подула вверх, отгоняя их от лица.
На столе остывал стакан крепкого чая. Лика зачарованно смотрела в эту янтарно-прозрачную линзу, где, словно стая грачей на осенней заре, кружились чаинки.
Человек с тяжелым вздохом поднялся из-за стола, осторожно расстегнул наручники на ее запястьях и бросил их в стол, грузно прошелся к окну, закурил. Это был сорокалетний мужик крупной доброй породы.
— Дайте пить, — прошептала Лика.
Не глядя в ее сторону, человек подвинул стакан. Тепловатый чай она выпила жадно, в несколько глотков. Рывком вздохнула и вскинула голову, изгоняя униженность и страх. Она смотрела в упрямый, честный лоб «начальника». Его крупная голова ровной ладной посадкой напомнила ей Вадима. На глаза навернулись слезы, ей захотелось все рассказать этому Белому Полянину, как будто он ей — далекий, давно потерянный брат. Узы тайного родства напряглись в ней, и она начала говорить торопливо, сбивчиво: о Владе, о Костобокове, о бабке Нюре… Русский, помоги русскому…
— Не волнуйся, сестренка, — пробасил дежурный, рассматривая ее студенческий билет, паспорт, рассыпанные фотографии. — Поедешь дальше по своим делам. Вот только добровольную сдачу оружия придется оформить.
Он отложил так и не начатый протокол, нажал красную в черном ободе кнопку. В кабинет вошел стройный, тонко перетянутый в поясе милиционер.
— Вот что, Андрюша, в пять пятнадцать посадишь гражданочку на двадцать первый, в купе к проводникам. Пусть довезут до Кременги…
В Поозерье лето выгорает в один день, оставляя лишь седой пепел. Незаметно убыло солнце. От стылой осенней воды в храм заползала тяжелая знобящая сырость и холодный туман. Отца Гурия лихорадило. Но телесный недуг только обострял чувства. Глухие волчьи ночи он просиживал над Книгой, сберегая тающее сердечко свечи от внезапного осеннего сквозняка. Его узкая ладонь рубиново светилась, когда он прикрывал ею огонек, и лучики-пясти, похожие на плавник крупной рыбы, напоминали о ступенях творения.
Вся краса мира, вся его мудрость, собранная с медоносных лугов вдохновения, весь трепет жизни и ее неуловимая тайна были собраны в его Глубинной книге. Долгой молитвой усмирял он мятеж мыслей, и в глубокой тишине звучало Слово. Оно связывало воедино знакомое прежде и открывало новый смысл каждого знака. Начертания букв — гармоничные спирали, окружности, плавные завитки — были частицами, крохотными каплями мироздания. Но без единой буквы, звена, кирпичика картина мира дробилась и теряла смысл.
— «„Аз Буки Веди“ — означает „Бог Буквы поВедал“… Далее: „Глаголь Добро Есть Живете“ — „И говорил: добро живите…“ Грамота Руси — суть молитва древняя, грамота миров. Порядок букв — Путь священный, Богом заданная тропа восхода. Нечистый дух не смеет коснуться их. Не убойся, чадо, смело следуй своему разуму, ибо он — Божий свет.
Вот буква „Аз“ — Бог-Ас, перст, на небеса указующий. Эта буква — первый ключ Вселенной, гласящий: „Люди — смертные Боги. Боги — бессмертные люди“, потому „Аз есмь Бог“…
Второй ключ Вселенной: внешнее подобно внутреннему, малое — большому. Нет ни малого, ни великого на весах судьбы…»
Холодеющими устами отец Гурий повторял стих древнего пророчества:
«…Дева в грозе, в море бурном, кипящем зачнет дитя… На святом острове… Возьми, о целомудренная Сияна, под свой покров это грядущее дитя. Земля и Море во всей своей необъятности ждут его, и Небо со своим глубоким сводом. Колеблется на оси потрясенный Мир, и вся Природа дрожит в надежде на Человека…»
Отец Гурий теперь вовсе не спал и не ел. Молитва и чтение Книги питали его нетелесным хлебом. Явленные ему картины он не сумел бы пересказать словами. Образы и символы принадлежали иному миру. Из этого мира он, как молния, когда-то был ввержен в земное лоно и заперт в человеческую плоть. Образы эти были непонятны ему самому, но, по словам Книги, именно он должен был передать пророчество людям.
Он долго не решался приступить к новому делу, опасаясь всегдашнего сопротивления, которым материальный мир встречал любые его усилия. В этом упорном сопротивлении таились месть и насмешка.
Все добрые зачины рождаются на рассвете. Еще с вечера с помощью верши-самолова отец Гурий наловил рыбы. Добрую половину улова он отпустил обратно в озеро. В садке оставил только остроперых ершей и щук — яростных и ненасытных озерных пиратов. Вычистив рыбин, он стал вываривать уху, отцеживая раствор через худую, сквозящую на свет ткань-серпянку. Час за часом кипели в ржавом ведре рыбьи хвосты, ныряли и вновь выпрыгивали зубастые головы, плескались жирные перламутровые плавники. Отец Гурий терпеливо вымешивал пахучее липкое варево. К вечеру в ведре вызрел тугой студенистый комок.