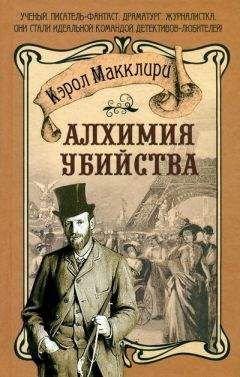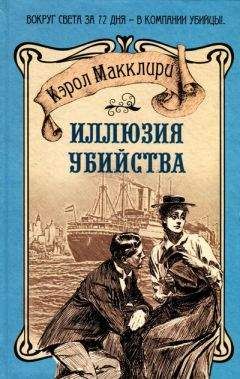— Извините, что вмешиваюсь, но я не думаю…
— Странно.
Когда я перебивала маму на полуслове, она говорила, что я думаю вслух.
— Что странно?
— Что Перун может иметь дело с такими, как Артигас. Они же враги. В глазах анархиста Артигас — капиталист, порабощающий простого человека, типичный богатей-грабитель, которого анархист хочет убить. И анархисты представляют собой самую большую угрозу для людей, подобных Артигасу. Они живут в страхе, окружают себя телохранителями, ибо знают, что любой из них может стать следующей жертвой радикалов.
— Тогда почему Перун мог работать на Артигаса?
— Может быть, — размышляет Жюль, — он не работает на него. Может быть, он работает с ним. Или более того. Перун мог шпионить. Возможно, Артигас разрабатывает новое оружие убийства, такое, которое анархистская группа желала бы прибрать к рукам.
Я прокручиваю в мозгу эту идею, а трость Жюля продолжает постукивать в задумчивом, почти нервном ритме, который, как я замечала, появляется, когда он погружен в решение проблемы.
— Жюль, когда бы ни упоминалось имя Артигаса, вы — как бы это сказать — расстраиваетесь. Вы реагируете, словно между вами вражда. Мы вместе ведем расследование, и вдруг встревает этот человек. Не думаете ли вы, что с вашей стороны было бы несправедливо утаивать что-то от меня?
— Утаивать от вас? — смеется он. — Иметь с вами дело, мадемуазель, — это как чистить лук, который постоянно меняется, как только вы добрались до нового слоя. Если вы скажете, что сейчас день, мне нужно убедиться, что солнце в небе.
В данную минуту совершенно бесполезно говорить с ним об Артигасе.
В «Прокопе» мы находим Оскара в окружении группы людей, в том числе официантов. Они собрались вокруг его столика, чтобы послушать, как он распространяется на предмет эстетики, которая, как я думаю, в чем-то схожа с философией, признающей только красивое. Разум и сердце не в счет, значение имеет только наружная красота. Если женщина не красива, если цветок не прекрасен, они никчемны. Очевидно, никто не подсказал Оскару, что красота — это только внешнее качество, а внешне он не очень красив. Однако должна признаться, голос у него замечательный.
Оскар не говорит, а поет фразы, его язык — это дирижерская палочка, которая соединяет идеи и звуки из разных частей его мозга одновременно. В этом огромном человеке, выражающем себя экстравагантными жестами и поэтической вольностью, есть что-то гротескное и в то же время трогательное. И еще признаюсь, что чем дольше я нахожусь рядом с этим странным созданием, тем больше обнаруживаю в нем того, чем можно восхищаться и за что обожать. В глубине души я чувствую, что у него золотое сердце. В схему убийства проституток он вписывается лишь тем, что мог бы заговорить их до смерти.
— Попросите вашего друга выйти к нам на улицу. У меня есть несколько вопросов, которые я не имел возможности задать вчера вечером.
Мне незачем знать, по какой причине Жюль не хочет, чтобы его видели с Оскаром в «Прокопе». На людях он многословный павлин. Он привлекает внимание, как обнаженная женщина.
По моему сигналу Оскар направляется к нам, пробираясь сквозь толпу с таким видом, словно ему устроены проводы на Красном море. Он подходит к Жюлю с сияющей улыбкой:
— Я слышал, официант обращался к вам «Жюль Верн». Я восхищен, что встретился с человеком, который написал книги моего детства о путешествии на воздушном шаре и снаряде на Луну. А я думал, что вы умерли.
— Познакомившись с вами, мсье, я точно умер и отправился в ад.
После обмена любезностями мы идем в кафе за несколько кварталов от места встречи.
Вместо зеленого пальто Оскар надел темно-фиолетовую, почти черную накидку, доходящую до самых ботинок. Под накидкой у него болотного цвета бархатный пиджак, сиреневая рубашка, темно-серые штаны, белые чулки и лакированные ботинки. На голове экстравагантная мушкетерская шляпа с широкими полями такого же сиреневого цвета, как рубашка, и с красным пером. В общем, он столь же «неприметен», как участники балаганного шествия Финеаса Барнума.[42]
— Говорил ли ваш друг, которого убили, что у него есть приятель-русский? — спрашивает Жюль резким голосом, словно готов вытрясти информацию из Оскара.
— Русский? Нет. А этот сумасшедший убийца русский?
— Мы не уверены. — Голос Жюля не становится мягче. — Упоминал ли он о каком-то химике? Или о ком-нибудь, кто так или иначе связан с наукой?
— Нет, ни о русских, ни о химиках, хотя нет ничего удивительного, если мог быть контакт с русским. В Париже много русских студентов. Натурально здесь получают высшее образование дети русской элиты.
Меня покоробило просторечное выражение в устах Оскара. Он употребил его, желая показать, что может говорить как простолюдин. Иначе говоря, таким приемом он пользуется, чтобы поразить слушателя, заставить задуматься над тем, о чем он говорит. Он начинает читать лекцию о системе высшего образования в России, и Жюль останавливает его.
— Уверен, ваши знакомые в кафе будут слушать эту информацию разинув рот. А не могли бы вы рассказать, при каких обстоятельствах был убит ваш друг?
Оскар вздыхает — ему больно вспоминать об этой трагедии. И я не думаю, что он притворяется. Он личность драматическая и притом мелодраматическая. Может быть, ему так легче пережить горе.
— Жан Жака в женской одежде нашли в темном переулке недалеко от бульвара Клиши. У него был вспорот живот, но крови вокруг тела было совсем мало. Полиция пришла к заключению, что его убили в другом месте, а потом бросили в переулке.
— Он жил где-то поблизости?
— Боже упаси! Он родом из аристократической семьи. Там, где нашли его тело, живет бедный люд и прочие отверженные.
Жюль постукивает тростью по тротуару.
— Интересно. Каким образом его тело оказалось в переулке? Ведь даже на Холме никто не станет тащить тело по улице. Странно, зачем убийце понадобилось каким-то образом доставлять тело на это место?
— Чтобы запутать следствие, — высказываю я предположение. — Он всегда совершал преступление в кварталах бедноты и выбирал жертвы, чья смерть наделает меньше шума, чем смерть уважаемых людей. Он мог встретить Жан Жака на площади Бланш или где-нибудь еще, даже на другом конце города, на бульваре Сен-Мишель, и заманить ее — его.
— Заманить куда? В свое жилище? Не означает ли это, что убийца живет где-то недалеко от этого переулка?
— Преступление могло быть совершено в фиакре по пути туда, — высказывает мысль Оскар.
— В таком случае фиакр был бы залит кровью, кучер сообщил бы об этом в полицию. У убийцы могло быть свое средство передвижения, тогда понадобился бы сообщник, потому что без кучера, наверное, не обойтись. — Жюль поворачивается ко мне. — Я согласен, что тело могли оставить в переулке, чтобы запутать следствие. Но ведь тело туда надо доставить тем или иным способом. Вряд ли можно предположить, что убийца взвалил тело на плечи и нес его или нанял фиакр. Легко спрятать тело в экипаже с кучером, намного сложнее — в небольшой коляске, которой надо управлять самому. Либо у него есть экипаж…
— Или, как вы предположили, он живет в этом районе, — перебиваю я Жюля. — Но если у него есть свой экипаж, можно допустить, что он человек со значительными средствами. Если это так, то зачем ему жить в бедняцком квартале?
— Так проще скрыть свои злодеяния, — говорит Жюль.
Я останавливаюсь как вкопанная.
— Верно. Он должен жить совсем недалеко от переулка. Переносить мертвого человека на расстояние более чем несколько метров очень трудно. Мы должны немедленно поехать туда и осмотреть квартал.
Жюль берет меня за руку.
— После того как мы закончим дела с Артигасом на выставке.
— Мы едем на выставку. — Оскар радостно улыбается.
— «Мы» не означает «все».
— Поскольку Артигас пользуется такой дурной репутацией, может быть, лучше ехать нам троим, — предлагаю я, надеясь сохранить мир.
— Уж не сам ли это граф Артигас? Я видел его в «Кафе де ля Пэ». Пренеприятная личность, никакой культуры, просто денежный мешок. Каким образом он оказался замешанным во все это?
Я рассказываю Оскару, что мы узнали о картине Тулуза.
— Луи Пастер? Ученый? Значит, это ископаемое все еще с нами. Несколько лет назад он нашел средство против собачьих укусов, не так ли? Почему бы кому-нибудь не поискать средство против укусов человека?
Он одаривает нас сияющей улыбкой, несомненно, рассчитывая на похвалу за свое остроумие. Жюль поднимает глаза к небу, словно ожидая или надеясь, что вмешается провидение, хотя бы ударом грома.
— Когда мы придем на выставку, — Жюль смотрит на меня умоляющим взглядом, — может быть, вы ознакомитесь с экспонатами, пока я буду говорить с Артигасом?