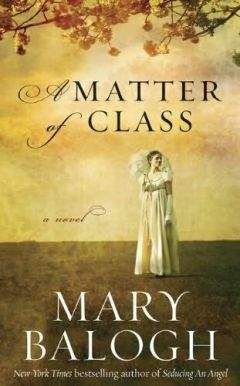— Однажды я поверила вам, и что из этого вышло? Сначала мадам Тренти, потом, подозреваю, Молли Буллок, а теперь вот приезжаю и вижу, как вы тискаете еще одну женщину. Отдаю вам должное, Натаниел: вы просто воплощение постоянства — в своем непостоянстве!
— Это мадам Тренти и Молли Буллок ввели вас в заблуждение, а не я. Что касается Конни, она просто моя знакомая. Вам случилось зайти, когда с ней произошла неприятность. Она облила себя вином, и мы смеялись над ее оплошностью.
— Тогда можете быть уверены, Натаниел, что с вами так и будут происходить всякие неожиданности. Что касается меня, я переночую здесь, выполню то, зачем приехала, и сразу отправлюсь домой… — Ее голос сорвался.
— Элис, объясните, что привело вас сюда. Завтра, если хотите, я готов повсюду вас сопровождать.
— Не хочу, — крикнула она, внезапно распахивая дверь, так что я не устоял и упал в ее объятия. Она оттолкнула меня, будто стряхнула таракана. — Я достаточно натерпелась от вас оскорблений, Натаниел. Еще и прижимается.
Я покраснел как рак и отступил на почтительное расстояние, хотя это не соответствовало моим желаниям.
— Я не специально, Элис. Простите ради бога. Я только хочу, чтобы вы перестали сердиться и презирать меня. Давайте оставим этот разговор. Прошу вас.
В конце концов, после долгих пререканий, она неохотно впустила меня, позволила сесть и, категорически запретив даже заикаться о Конни и Молли, объяснила причину своего визита.
Дело было в том, что на запрос Элис о Марте, дочери Джеймса Барроу, который она отправила священнику Кембриджского прихода, пришел быстрый и весьма оптимистичный ответ. Марта Бантон (такова была ее нынешняя фамилия) по-прежнему жила в этой местности. Священник уверял, что она с радостью ответит на все вопросы об отце и окажет нам всяческое содействие. Поскольку встреча с ней обещала стать результативной, Элис приняла скоропалительное (и, как она теперь считала, глупое) решение поехать в Кембридж и найти меня, чтобы вместе со мной нанести визит Марте Бантон. В Хорсхит-Холле ей сообщили, что мне пришлось неожиданно переселиться на постоялый двор в Хиндлсхэме, куда она и последовала.
Все это Элис изложила мне подчеркнуто сухим, если не сказать сердитым, тоном. Несмотря на то что она впустила меня в комнату и согласилась объяснить причину своего приезда, я не тешил себя иллюзиями. Ярость ее не утихла, она по-прежнему не доверяла мне. Но даже в такой напряженной обстановке я не мог не любоваться ею, и это меня настораживало. Кожа ее светилась, волосы были уложены на голове кольцом, из которого выбивался, падая сбоку, один локон, сиявший, будто начищенная медь. Я почувствовал, как во мне просыпается желание. Я был в плену ее чар, но, перехватив ледяной взгляд, сразу протрезвел и преисполнился решимости вести себя с безупречной осмотрительностью.
В примирительном тоне, как мне казалось, я поведал ей обо всем, что произошло со мной в Хорсхит-Холле. Рассказал о своих ночных приключениях и о том, как меня бесцеремонно выставили за дверь. Я был рад, что мне выпала возможность поговорить с Элис с глазу на глаз, не отвлекаясь на кого-то еще, ибо знал, что беседа с ней поможет мне осмыслить случившееся, а ее, я надеялся, заставит позабыть про свой гнев. Но я мог бы с таким же успехом говорить со статуей. Она не реагировала на мои шутки, мольбы и рассказ о полуночных похождениях. Каменное выражение ее лица не смягчала даже тень улыбки. Все свидетельствовало о том, что она испытывает ко мне глубокую неприязнь. И когда наконец мое повествование иссякло, она решительно отказалась поужинать со мной. Вместо этого попросила передать на кухне, чтобы ей принесли легкий ужин в номер, так как она намерена пораньше лечь спать.
На следующее утро, после завтрака, Элис выглядела скорее подавленной, чем сердитой. Я счел это добрым знаком. Может, она раскаивается в том, что была вечером неприветлива со мной. Однако очень скоро стало ясно, что я напрасно тешу себя надеждой. Когда мы вышли к повозке, которую я заказал, она отклонила предложение сесть рядом со мной и устроилась за сиденьем кучера, и я, как обычный возница, вынужден был погонять лошадь в одиночку.
В неловком молчании мы доехали до аккуратного домика на окраине Кембриджа. Я распряг и привязал лошадь, спрашивая себя, улучшится ли когда-нибудь настроение Элис или отныне между нами так и будет властвовать отчуждение. Элис тем временем уверенным шагом приблизилась к дому и постучала в тяжелую дубовую дверь.
На пороге появилась молодая коренастая женщина с черными волосами и смуглой, как у цыганки, кожей. На руках она держала круглолицего малыша; еще один ребенок — тоже смуглый и кудрявый — выглядывал из-за ее юбки.
— Миссис Бантон? — спросила Элис. — Да.
— Позвольте представиться: Элис Гудчайлд. Это я делала запрос из Лондона относительно вашего отца Джеймса Барроу и сиротского приюта. Со мной мой друг Натаниел Хопсон, — представила она меня без тени иронии в голосе. — Он тоже принимает участие в расследовании.
Лицо миссис Бантон расплылось в широкой улыбке.
— Ну конечно. Его преподобие говорил о вас. Проходите к огню и спрашивайте, что вас интересует.
Она провела нас в кухню и усадила в резные деревянные кресла, положила младенца в колыбель и, сев рядом, стала его баюкать. Старший ребенок опустился на колени у ее ног и принялся возить туда-сюда по полу деревянную лошадку.
— Так что же вы хотите узнать о моем отце?
Элис быстро глянула на меня, давая понять, что оставляет инициативу мне.
— Нас интересует событие, произошедшее в период открытия приюта. Полагаю, один мой друг — он имеет некое отношение к лорду Монтфорту из Хорсхит-Холла — был помещен туда в первый день работы этого заведения… — начал я.
— Вполне возможно. Сама я тогда была совсем еще девчонкой и не могла запомнить всех несчастных детей, которых приняли в приют.
— Нет, конечно. Этого от вас никто и не требует. Но ребенок, о котором идет речь, отличался от остальных. Прежде всего, возрастом. Ему было около четырех лет, и по правилам приюта он считался слишком взрослым, чтобы быть принятым. Тем не менее я убежден, что по той или иной причине его все-таки взяли. Может, его привели не вместе с остальными? Может, ваш батюшка просто нашел его? Не припоминаете?
Миссис Бантон ответила не сразу, но, когда заговорила, ее голос звучал уверенно.
— Мой отец был очень добр по отношению к детям. Если бы он нашел на крыльце брошенного ребенка, он непременно позаботился бы о нем, я в том уверена. У него никогда не хватало духу отправлять сирот в работные дома. Он всегда с осуждением отзывался об этих заведениях, считал, что поместить туда ребенка — все равно что подписать ему смертный приговор. — Она замолчала и, глядя на играющего малыша, потрепала его по голове. — В общем, ребенка, о котором вы говорите, я не помню. Видите ли, отец очень часто приводил домой уличных детей и затем пытался пристроить их в какую-либо семью.
— Вам когда-нибудь доводилось слышать о том, что лорд Монтфорт отправил в тот приют какого-то ребенка? Миссис Бантон покачала головой.
— От нас до Хорсхит-Холла миль десять. С этим поместьем меня ничто не связывает, и я понятия не имею о том, что там происходит.
— Ваш отец оставил какие-либо записи о том времени, когда он работал в приюте, записи, которые могли бы пролить свет на это дело?
Она от души расхохоталась.
— Писать он обожал так же, как и возиться с детьми. У меня есть огромная коробка с его бумагами. Я привезла их с собой из Лондона, но перебрать до сих пор не удосужилась и об их содержании знаю столько же, сколько и вы. Можете взглянуть, если хотите.
Следом за миссис Бантон мы прошли в маленькую гостиную, где она извлекла из сундука коробку и вручила ее мне. До той минуты Элис хранила молчание, но, когда хозяйка спросила, не желает ли она посидеть с ней на кухне у очага, тепло поблагодарила и сказала, что вдвоем мы просмотрим бумаги гораздо быстрее.
Я всегда думал, что каждый молодой человек, поскольку он еще не нажил мудрости, считает себя относительно бессмертным. Юноше моего возраста безразлично, сохранится ли после него нечто такое, в чем будут запечатлены его мысли, идеи, верования, сущность его натуры. Пожалуй, только с годами начинаем мы сознавать, сколь мимолетна человеческая жизнь, и тогда в нас просыпается желание оставить свой след на земле. Наверно, это и побуждает нас рожать детей, сооружать памятники, писать дневники или создавать еще что-то такое, что, как нам представляется, должно пережить нас.
Я упоминаю об этом своем наблюдении только потому, что, увидев архив Джеймса Барроу, я понял, что в смерти он оказался столь же щедрым человеком, каким был при жизни. Он оставил после себя множество свидетельств своей исключительной добропорядочности. В коробке хранились его письма родственникам, детям и жене; переписка с доблестным капитаном Корэмом — основателем приюта; записные книжки, в которых он комментировал, одобрял или критиковал господствующие тенденции, высказываясь, среди прочего, о благотворительности, о последних новшествах в моде на головные уборы, о новой модели экипажа и по поводу придворных сплетен о его величестве короле Георге II; дневники, в которых он записывал даты рождения всех своих детей и наблюдения об этапах их развития: кто когда прочитал первое слово, разбил первую тарелку и тому подобное.