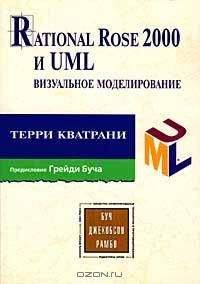— Ох, бедная ты моя! — посетовала служанка, снова обнимая ее и гладя по свившимся в мокрые мелкие колечки волосам. — Да не скажу, не скажу. Но я точно знаю, что синьора Мариано не будет сердиться… ну разве что совсем чуть-чуть — за то, что ты ей не доверилась. Она же тебя любит!
— Не говори, с ней снова случится беда, и теперь по моей вине! Она хотела меня с осени отправить на учебу в Пизанский университет, и мне все равно пришлось бы куда-то сбежать, потому что я не смогла бы дальше скрываться, ведь там одни мужчины…
— Недалеко отсюда, в деревне, в Винчи, живут мои родственники — мать, сестры, брат. Я отвезу тебя к ним, а там что-нибудь придумаем.
Девочка снова расплакалась и стала благодарить ее.
— Рано еще спасибать, синьорина! Вот выпутаемся, там и помолишься как-нибудь за мое здоровье, оно мне пригодится. А пока раздевайся да ложись спи, я, как рассветет, одежду твою починю. Денек тут пересидишь, сюда никто не пойдет тебя искать, а завтра перед полуночью, даст бог погоду, отвезу тебя к моим…
Глава тринадцатая Гоффредо ди Бернарди
По возвращении домой синьору Чентилеццки ждало дурное известие: за те два дня, что ее не было, куда-то исчез воспитанник синьоры Мариано. Хватились его не сразу, а вечером еще и Абра сообщила, что ей нужно уехать в родной городок и вместо нее детьми обещает заняться одна из служанок доньи Беатриче. Усталая и встревоженная, Эртемиза не стала ни о чем ее расспрашивать и только согласно кивнула. Ночь была беспокойная, хозяйка дома не находила себе места и все гадала, что же могло случиться с обычно таким обязательным Дженнаро, а чуть свет отправила одного из слуг обойти всех знакомых в надежде отыскать мальчика у них. Слуга вернулся далеко за полдень и отчитался, что был у всех, нигде нет юного господина, и только двоих не оказалось дома — доктора Игнацио Бугардини и кантора Шеффре. Учитель музыки однако прискакал на своем взмыленном и потемневшем от пота сером жеребчике ближе к вечеру, как был с дороги.
— Мне Стефано сообщил — неужели это правда? — взбегая по лестнице, спросил он первую же встретившуюся служанку.
— Да, синьор, увы.
Он сдернул с головы берет, утер им лоб и направился в комнату доньи Беатриче. Эртемиза догнала его у самой двери.
— С возвращением, синьор Шеффре. Да, к сожалению, это правда: мальчик пропал.
— Как это случилось?
— Никто не знает. Я оставалась в базилике, и мне потом рассказали, что с утра его комната была уже пуста…
Кантор был взъерошенный, в испарине, с посветлевшими до прозрачности глазами. На мгновение она даже забыла о причине, приведшей его сюда. Музыкант постучался к синьоре, и та пригласила их обоих, где рассказала обо всем, что знала (Эртемиза слышала эту историю уже, наверное, в четвертый раз за эти два дня).
— Что говорит доктор Бугардини? — без околичностей уточнил Шеффре.
— Слуга не застал его нынче. А позавчера он уехал рано утром, не попрощавшись ни с кем.
Музыкант и художница переглянулись, и Шеффре озадаченно нахмурил брови. Когда они выходили, он сказал Эртемизе, что поспешный отъезд доктора ему крайне не нравится и что нужно с ним поговорить.
— Я поеду с вами, — твердо сказала она. — Мы можем воспользоваться моей повозкой, а своего коня предоставьте слугам.
Он кивнул. Пока закладывали повозку, Шеффре увел жеребца на конюшню, Эртемиза же переоделась для поездки в город и отдала наказы служанке, остающейся с девочками. Та пообещала все сделать не хуже самой Абры.
Ехали молча и как только добрались до оживленного центра с его узкими улочками, экипаж оставили на кучера, а дальше пошли пешком, срезая путь в проулках, известных Шеффре как пять пальцев.
На площади Санто Спирито, за два квартала до дома доктора Бугардини, от группы людей, идущих навстречу, отделился вдруг невысокий худощавый блондин с жидкой бородкой и тонким вытянутым носом. Присмотревшись к Шеффре, он кинулся в его сторону и ухватил за широкий рукав сорочки. Тот вздрогнул и недоуменно уставился на него.
— Фредо! Так ты здесь?! — радостно вскричал незнакомец, привлекая к ним троим внимание прохожих.
Эртемиза переводила взгляд с одного на другого и заметила про себя, что глаза кантора выдали его безоговорочно: он узнал этого блондина, узнал сразу. И не было уже никакого смысла в том, чтобы в следующее мгновение закрываться маской непроницаемости, иной раз абсолютно достоверной, а теперь фальшивой, и высвобождать руку со словами:
— Вы обознались, синьор.
Блондин оторопел, а Шеффре, взяв Эртемизу под локоть, повел ее прочь с какой-то излишней поспешностью и даже грубоватостью. Однако сдаваться так просто встречный незнакомец не пожелал: он нагнал их и снова вцепился в рукав кантора:
— Фредо, ты с ума сошел? Это же я, Бартоломео Торрегросса, твой скрипач, ну ты что?! Не так уж ты изменился, чтобы я принял тебя за кого-то другого!
Опустив глаза, тот искоса бросил на него взгляд из-под ресниц и глухо, с плохо скрываемым раздражением, повторил сквозь зубы:
— Синьор, говорю вам: вы обознались!
Эртемиза впервые увидела его таким: Шеффре выглядел как загнанный в западню волк, еще немного — и готовый к последней схватке. Глаза его стали почти желтыми и замерцали яростью, в лице, всегда таком мягком и приятном, проступило что-то хищное, лютое, даже безумное. Он остался красивым и в столь неприглядной ипостаси, но теперь это была красота мифического чудовища с зеркального щита Афины.
— Ладно, ладно! — сдаваясь, Торрегросса поднял пустые ладони. — Не извольте гневаться, синьор, я, видимо, в самом деле обознался: тот, за кого я вас принял, был вменяемым человеком. Счастливой дороги.
Он отступил и скрылся за спинами горожан. Кантор ссутулился, прикрыл глаза и встряхнул головой.
— Простите, — вымолвил он спустя минуту или даже две. — Наверное, я напугал вас.
— Да нет, ничуть, — покривила душой Эртемиза и поняла, что больше никогда не позволит ему прикоснуться к себе, хотя перед ней уже стоял прежний синеглазый Шеффре, и в зрачках его прыгали золотые искры закатного солнца.
Музыкант все понял и без слов, по одной лишь позе спутницы, которая, словно защищаясь, повернулась к нему боком, выставляя плечо, и на губах его мелькнула горькая усмешка.
— Я сильно напугал вас, знаю. Но, похоже, это неизбежно.
Пробормотав это, кантор пошел вперед. Эртемиза растерялась. Он не стал оправдываться, как сделал бы любой другой на его месте, не стал в чем-то клясться и обещать что-то объяснить, «но только позже, не сейчас». Просто оставил ее и двинулся дальше, как сомнамбула в полнолуние. Это так поразило женщину, что она прибавила шагу и нагнала его, когда он свернул под арку в какой-то проходной дворик:
— Шеффре, я знаю, у вас что-то случилось, что-то очень плохое. Не хотите — не рассказывайте, но… не отворачивайтесь от людей… пожалуйста!
Музыкант обернулся. В тоннеле арки было темно, гулко отдавались все звуки улицы, где-то гулили и возились, шурша крыльями, невидимые голуби, и отовсюду, отовсюду повылезали любопытные рожи альраунов.
— Я расскажу, — вдруг с каким-то вызовом, будто услышав дразнящие речи химер, сказал он.
Браслет уколол запястье. Сама не понимая, что делает, Эртемиза сделала шаг навстречу, зажимая ему рот левой ладонью. Шеффре накрыл ее кисть своей рукой и, прижав крепче, осторожно захватил губами кожу у основания большого пальца. Эртемиза всхлипнула: не было ни страха, ни неприязни, только что вынудивших дать зарок, который тут же был ею нарушен. Она не опомнилась, да и не хотела опомниться, когда он, отпустив руку, потянул к себе ее саму, обнял и стремительно, жарко поцеловал в губы. Наоборот — она ответила, все больше утрачивая связь с реальностью. Альрауны куда-то исчезли.
— Я расскажу, — шепотом повторил кантор ей на ухо, с трудом прерывая затяжной поцелуй. — Только вам и только потому, что я не хочу вас потерять. Вы все равно уже увидели скрипача, услышали, что он сказал, и мне не остается ничего, кроме как рассказать вам всё.
И все так же — шепотом, на ухо — он поведал своей спутнице историю, от которой у нее мороз пошел по коже. При одной лишь тени попытки перенести случившееся с ним на себя и кого-то из своих дочерей Эртемизу едва не стошнило от ужаса.
— Это была моя вина от начала и до конца. Беспечность недоросля… Провидение наказало меня за это легкомыслие сполна…
— Но причем же здесь вы? Так ведь принято — и мы тоже вывешивали колыбельку с девочками в саду за тем нашим домом!
— Хорошо, что я этого не видел… — Шеффре прижался лбом к ее виску.
Противоречивые чувства бушевали в ней: безотчетное томление из-за близости к нему, порождающее давно позабытое, но теперь такое неуёмное желание, а в перевес им — жалость, боль и тянущая сердце тревога за пропавшего Дженнаро. От этой гремучей смеси ноги дрожали, и если бы кантор не обнимал ее, почти держа на весу, а она сама не обвивала руками его шею, Эртемиза давно бы уже потеряла равновесие.