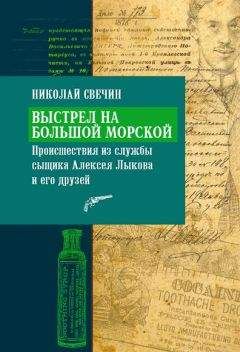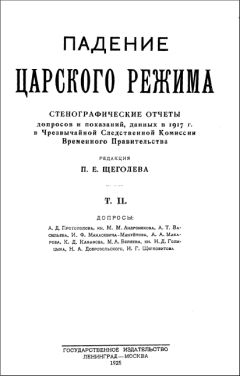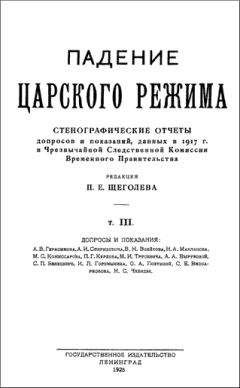Убрав «бульдог», Лыков вышел в круг света, образуемый масляной лампой, и сказал вполголоса:
— Фёдор, я живой. Отдохни немного.
Богатырь замер, бросил лопату, обернулся — и со всех ног бросился к Алексею. Подбежал, обнял — и разрыдался… Федя-Заломай стоял и ревел белухой, боясь выпустить Алексея из могучих рук. Наконец, тот высвободился сам, отступил на шаг и проговорил, растроганный:
— Ну, полно, полно… Всё хорошо… Ты как здесь оказался?
— Господин Лыков! Господин Лыков! Ах, Есусе Христе сыне Божии, спасибо тебе, благодетелю и всех бедняков засупнику… Вы живы! А я… четвёртый день лопатою ворошу, вона скока нарыл!
И хлопец показал на отвалы.
— Герой! — похвалил его титулярный советник. — Тут саженей не меньше пяти-шести. Оставалось всего-ничего; ещё сто с хвостиком.
Фёдор осёкся, но Лыков тут же крепко обнял его и поцеловал в залитую слезами щёку.
— Главное не это, а то, что ты меня не бросил!
— Как же я вас брошу? Вы наставник мой и покровитель.
— Спасибо тебе за верность. Всё же: как ты здесь оказался? Я же велел вам с Шарапом уезжать.
— Мы и уехали. Тока беспокойно мне стало. Еду, а сам думаю: а вдруг вы тама в опасности? Один, без помощника… Откатили напримерно версту, на подъёме я соскочил — и назад. Шарап мне кричал вослед, но я не слушался. Вертаюсь — а из пещеры дым валит! Чёрный, вонючий… И никого. Я в неё шасть, смотрю — трухмен[125] лежит, что с вами остался. Мёртвый. Тута я совсем за вас перепугался. Эх, думаю, пень ты дубинородный, бросил-таки господина Лыкова! А войти нельзя, задохнешься. Долго я ждал, покуда весь дым сойдёт, и тогда токмо в пещеру полез. Вот здесь нашёл, что вас завалило. Плакал, плакал… Опосля вернулся в Даниловку. Купил лопату, ланпу, водки и хлебу. Решил вас раскопать. Вот.
— И все четыре дня копал?
— Ага. Здешние ко мне приходили.
— Какие здешние?
— Разбойники. Страшные… Расспрашивали, чево я здеся делаю. Я рассказал. Не тронули. Посмеялись да ушли; трухмена тока свово забрали.
— Где же ты ночевал?
— У выхода. Костёр жёг. Тут в овраге под снегом полнёхонько валежнику.
— А чем питался?
— Хлебом.
«Нельзя такого человека в дергачах оставлять, — подумал Алексей. — Он ещё не испорченный, только очень наивный. Возьму с собой в Петербург. Если научится грамоте, устрою в полицейский резерв. Хороший городовой получится! Не осилит — пристрою в услужение к порядочному человеку. Приглядывать буду и помогать; негоже эдакими верными людьми бросаться!».
— Вот что, Фёдор, — сказал он мягко. — Ты, помнится, просил меня взять тебя к себе. Не передумал?
— Я же эта… господину Ногтёву присягу давал.
— А если он отпустит тебя со мной?
— О! — Заломай воздел вверх ручищи. — Бегом побегу! Моя главная мечта, господин Лыков, при вас находиться. Очень вы у меня доверие вызываете! А с моим умишком так рассудить: ежели к хорошему человеку не пристроюсь, пропаду.
— Ну и договорились. Зови меня теперь Алексей Николаевич.
— Слушаюсь, Лексей Николаич! Уж не пожалеете…
— Тогда поехали в Москву. С Ногтёвым я сам поговорю, сегодня же, и вещи твои заберу. Тебе в Шиповском доме появляться незачем.
— А у меня, Лексей Николаич, всё на мне, другого нету. Тама что, токмо тюфяк, так он ихний.
— Ещё лучше. Тогда двинули на дорогу возницу искать, а то я замёрз уже.
И они пошли к людям. Вид у них был босяцкий: чумазые, перепачканные в земле, а Лыков при таком холоде в одной жилетке и порванных на коленях брюках. Словно выходцы с того света, подумал Алексей, и вдруг понял, что он и в самом деле выбрался именно оттуда… И ничего — жив, здоров; много, если отделается насморком. Сильный организм, несмотря на четырёхдневный пост, сбоев не давал. Молодая кровь бурлила, мышцы играли, солнце грело и наполняло каждую его клеточку радостью жизни. Из такой могилы выскочил! Теперь ему сам чёрт не брат!
Потом Алексей вспомнил о деле. Рупейто-Дубяго с Мишкой считают его погибшим. И, полагают, теперь им можно немного расслабиться. Они постараются уехать из Москвы, подальше от следствия. Прятаться удобнее всего в Петербурге: большой город, Лыков его уже обыскал. А он вернётся следом за ними в столицу и забросит свою сеть. Успокоившиеся убийцы рано или поздно попадутся. Или Сохатый их отыщет, или они заглянут в сторожку к Пахому-Кривому, или Мишка навестит Кекинские дома — но поимка неизбежна.
Первые два мужика с санками побоялись везти Алексея с Федей-Заломаем, но третий, отчаянный, прельстился на трёшницу и доставил их на Самотёку. Наскоро умывшись, почистившись и переодевшись, Лыков оставил своего «ассистента» на попечении смотрителя квартиры. Велел только получше накормить парня… Сам же поехал на Мясницкую в сыскное отделение.
Когда он без доклада прошёл в кабинет начальника, то увидел умиляющую душу картину. Эффенбах с Благово стояли перед картой Москвы и о чём-то горячо спорили. Павел Афанасьевич говорил настойчиво:
— А вы ещё казаков попросите! Князь Долгоруков не откажет, особенно, если обер-полицмейстер его попросит; а он попросит! Тогда район поисков…
— Я же велел не беспокоить по пустякам, — недовольно обернулся Эффенбах на вошедшего. Увидел Лыкова — и замер. Благово застыл, медленно повернул голову, ахнул… Сшибая на ходу стулья, сыщики бросились Алексею в объятья. Трое серьёзных, достойных мужчин вцепились друг в друга и стояли так с минуту, сопя и чуть ли не всхлипывая… Потом Благово отошёл, спросил сиплым от счастья голосом:
— Где ты был?
— Сидел в Даниловских каменоломнях.
— Тебя вычислили, схватили, а потом ты убежал?
— Не совсем так. Меня действительно вычислили, не знаю, каким образом. Полагаю, что Рупейто с Мишкой пришли к отцу Николаю раньше меня и сказали, что их ловят. Попросили убежища. Когда же заявился я, Быков, видимо, предложил им избавиться от преследователя. Во всяком случае, в пещере была засада.
— И?
— У них оказался динамитный патрон.
— Они взорвали пещеру?
— Да. Свод обрушился саженей, антретно[126], на семьдесят-восемьдесят, если считать вместе с петлёй, — блестнул Лыков словечком из флотского лексикона своего шефа. — Меня пришлось бы откапывать полгода…
Благово с Эффенбахом переглянулись.
— Мы как раз сейчас собирались в Даниловку. Тоська-Шарап уже разыскан, сидит в секретной; а Федя-Залолмай пропал, как сквозь землю провалился.
— Он и вправду провалился. Все четыре дня меня откапывал. Пяток саженей прорыл! чистый крот…
— Ну и ну… Как же ты жил эти четыре дня?
— Тосковал. Думал — конец… Но крепился! Питался водкою — у меня была с собой баклажка.
— Вот! — вскричал Эффенбах. — А говорят, что водка вредна! Никогда этому не верил, а теперь особенно.
— А выбрался ты как? — продолжил расспросы Благово.
— Через четыре дня пришёл кот и вывел меня через узкий и длинный лаз, которого я не заметил.
— Какой кот?
— Дымчатый, ласковый.
Благово прошёл в угол к иконе, трижды на неё перекрестился:
— Слава тебе, Господи, слава тебе, Господи, слава!
Потом вернулся к Алексею:
— Коты тебя всегда любили.
— Теперь они меня спасли!
— Что же ты лаз-то не заметил, сыщик?
— Ну, нервы… И потом, мне сейчас кажется, что его там и не было раньше. Я же всё обыскал. И вдруг он появился! Чудо какое-то, мистика… И ещё до сих пор не пойму, как я в этой теснине не застрял. Поболе кота размером-то.
— Да, Лёха, — сказал уважительно Эффенбах, — не берёт тебя ни крест, ни пест. Но постой: ты же без еды девяносто шесть часов!
— Ничего, только голова немного кружится, да подташнивает…
— Сейчас из трактира кучу жратвы принесут!
— Это можно. Но игру надобно доиграть до конца. Я тайно возвращаюсь в Петербург. Федю-Заломая увожу с собой. Он парень верный, беру его под свою опеку… Сыскное же отделение пусть ведёт поиск пропавшего Лыкова с привлечением Тоськи-Шарапа. Легенда такая: Лыков мошенник и связан с фальшивомонетчиками, через него хотят выйти на изготовителей «красноярок». Понял?
— Сделаем, — заверил Эффенбах. — Отмоем «демона» для будущих трудов. Не пойму только, зачем тебе Федя-Заломай? Он же дергач.
— Он станет дергач, если его сечас не забрать у Верлиоки. Но отнюдь не поздно спасти человека. Возьмём да покрасим, и выйдет Герасим…
Неожиданно Благово, зайдя сзади, потёр Лыкова по затылку. Тот недоумевающе оглянулся:
— Что, земля осталась?
— Нет. Ты глянь на себя в зеркало.
Алексей, извернувшись, всмотрелся и обнаружил, что на его тёмно-русых волосах появился клок седины. Словно кто мазнул кистью, обмакнув её перед этим в белила.
— Посидишь четыре дня в могиле, ещё и не то появится. Ладно, я хоть там не свихнулся…